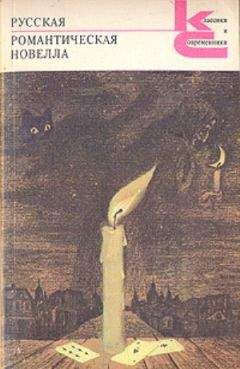Уничтожь сию банальность.
11. Г. А. Панфилову
(Москва, середина (?) декабря 1912 г.)
Прежде всего, лучше истина, чем лицемерие: ты думаешь, ты прав с своими укоризнами? Тебя оскорбило, что я сказал: «Что вы спите?» Но ведь ты лучше почитаешь истину и искренность. Знай же: я это чувствовал и сказал. Я и всегда говорю, что чувствую. Что ты подозреваешь в этих словах? Если что-либо дурное, то я говорю тебе нет! Если тебе это кажется грубо, то прости, я извинения просить не буду. Я сказал искренне, так, как сказал бы всякий мужик, видя, что мешкают. Этими словами я не требовал от тебя подробного письма, а требовал только ответа, что получил ты книги или нет. Я боялся за них, потому что посланы были цены, а квитанции я затерял.
Если ты требуешь своим письмом от меня всего красивого, чистого, благородного, деликатного, но лицемерного, то знай, это не есть искренность, а я тебе сказал именно так (искренне). Если что-либо и встретилось в моем письме, затрагивающее струны твоей души, то знай, я не отвлеченная идея (какая-либо), а человек, не лишенный чувств, и недостатков, и слабостей. Вина не моя, что ты нашел оскорбление в моем письме, – вина твоя, что ты не мог разобраться. Если я употребил м. г., то посмотри на окончание всей фразы и погляди, кому она сказана и можно ли так называть двух лиц. Не я тебя оскорбил, ты сам себя и меня, и меня до обидных слез. Знай, где твой находился в это время идеал? Или в это время он откачнулся от тебя, или ты от него. Я не знаю, но вижу. За все твои слова я мог бы сказать, как Рахметов («Что делать?», Чернышевский): «Ты или подлец, или лжец». Но я не хочу и особого равнодушия не имею, и притом глубоко тебя знаю и ценил как лучшего друга. Все-таки рана оскорбления лежит у меня на груди. Не было изо всех писем горше и худше сего письма!!! Во-первых, стыдны для тебя такие шаблонные требования, как Бальзамова и карточка. Здесь должно если быть, то все уже направленное к эгоизму. Хочешь быть идеалистом и противником общества, а сам строго соблюдаешь все светские приличия и рад за них подорвать все основы дружбы. Теперь уже не дружба, а жалкие шатающиеся останки, которые, может быть, рухнут при малейшем противоречии.
Ответа просить я не буду, потому что, может быть, будет тебе неприятно и ты не сочтешь себя обязанным и виновным перед собою. Почему-то невольно лезут в голову мрачные строчки:
Облетели цветы, догорели огни,
Непроглядная ночь, как могила, темна.
12–13. М. П. Бальзамовой
(Москва, 14 октября 1912 г.)
Милая!
Как я рад, что наконец-то получил от тебя известия. Я почти безнадежно смотрел на ответ того, что высказал в своем горячем и безумном порыве. И… И вдруг вопреки этому ты ответила. Милая, милая Маня. Ты спрашиваешь меня о моем здоровье; я тебе скажу, что чувствую себя неважно, очень больно ноет грудь. Да, Маня, я сам виноват в этом. Ты не знаешь, что я сделал с собой, но я тебе открою. Тяжело было, обидно переносить все, что сыпалось по моему адресу. Надо мной смеялись, потом и над тобой. Сима открыто кричала: «Приведите сюда Сережу и Маню, где они?» Это она мстила мне за свою сестру. Она говорила раньше всем, что это моя «пассе», а потом вдруг все открылось. Да потом сама она, Анна-то, меня тоже удивила своим изменившимся, а может быть – и не бывшим порывом. За что мне было ее любить? Разве за все ее острые насмешки, которыми она меня осыпала раньше? Пусть она делала это и бессознательно, но я все-таки помнил это, но хотя и не открывал наружу. Я написал ей стихотворение, а потом (может, ты знаешь от нее) – разорвал его. Я не хотел иметь просто с ней ничего общего. Они в слепоте смеялись надо мною, я открыл им глаза, а потом у меня снова явилось сознание, что это я сделал насильно, и все опять захотел покрыть туманом, – все равно это было бы напрасно. И может быть когда-нибудь принесло мне страдания и растравило бы более душевные раны. Сима умерла заживо передо мной, Анна – умирает.
Я, огорченный всем после всего, на мгновение поддался этому и даже почти сам сознал свое ничтожество. И мне стало обидно на себя. Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки, и… и теперь оттого болит моя грудь. Я выпил, хотя не очень много, эссенции. У меня схватило дух и почему-то пошла пена; я был в сознании, но передо мной немного все застилалось какою-то мутною дымкой. Потом, – я сам не знаю, почему, – вдруг начал пить молоко и все прошло, хотя не без боли. Во рту у меня обожгло сильно, кожа отстала, но потом опять все прошло, и никто ничего-ничего не узнал. Конечно, виноват я и сам, что поддался лживому ничтожеству, и виноваты и они со своею ложью.
Живу я в конторе Книготоргового т-ва «Культура», но живется плохо. Я не могу примириться с конторой и с ее пустыми людьми. Очень много барышень, и очень наивных. В первое время они совершенно меня замучили. Одна из них, – черт ее бы взял, – приставала, сволочь, поцеловать ее и только отвязалась тогда, когда я назвал ее дурой и послал к дьяволу. Никто почти меня не понимает, всего только-только двое слушают охотно; для остальных мои странные речи. Один – академик, другой – очень серьезный и милый юноша, как и я, чужды всем. Я насмехаюсь открыто надо всеми, и никто не понимает, лишь они. Получаю я немного, только 25 р. Скоро прибавят, верно.
Панфилов скоро пришлет мне ответ, и я ему дам адрес. Карточку я тебе пришлю после, со своей.
Обнимаю тебя, моя дорогая! Милая, почему ты не со мной и не возле меня?
Сережа14. Г. А. Панфилову
(Константиново, вторая половина февраля – начало марта (?) 1913 г.)
Дорогой Гриша!
Прости, что долго не писал. (Забудем прошлое, уставим общий лад.) Гриша, сейчас я нахожусь дома. Каким образом я попал, объяснить в этом письме не представляется возможности, но зато все это знает Павлов. Знаешь, Гриша, ты пиши поскорее ему письмо. Он просил меня об этом. Сейчас я совершенно разлаженный. Кругом все больно и на все тяжело и обидно. Не знаю, много ли времени продолжится это животное состояние. Я попал в тяжелые тиски отца. Жаль, что я молод!..
Никак не вывернешься.
Не знаю, что и писать, и голова тяжела, как свинец. Отовсюду по роже скользит влага. Удрученное состояние. Скоро поеду в Рязань. Слушай, ты пропиши Павлову, что я писать пока ему погожу. Но я, скажи ему, весьма всем доволен и очень рад, что его духовный перелом увенчался смиренным раскаянием. Я нисколько на это не сетую.
Все остальное я объясню тебе после.
Присылай наклейку. Я купил Надсона за 2 р. 25 к., как у Хитрова, только краска коричневая.
Слишком больно голову.
С. Е.Спроси его, как конкурс?
15. Г. А. Панфилову
(Москва, между 16 марта и 13 апреля 1913 г.)
Дорогой Гриша!
Извини, что запоздал ответом. Вопрос о том, изменился ли я в чем-либо, заставил меня подумать и проанализировать себя. Да, я изменился. Я изменился во взглядах, но убеждения те же и еще глубже засели в глубине души. По личным убеждениям я бросил есть мясо и рыбу, прихотливые вещи, как-то: вроде шоколада, какао, кофе не употребляю и табак не курю. Этому всему будет скоро 4 месяца. На людей я стал смотреть тоже иначе. Гений для меня – человек слова и дела, как Христос. Все остальные, кроме Будды, представляют не что иное, как блудники, попавшие в пучину разврата. Разумеется, я имею симпатию и к таковым людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин и Златовратский и др. Но как Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Некрасов – я не признаю. Тебе, конечно, известны цинизм А. Пушкина, грубость и невежество М. Лермонтова, ложь и хитрость А. Кольцова, лицемерие, азарт и карты и притеснение дворовых Н. Некрасова, Гоголь – это настоящий апостол невежества, как и назвал его Белинский в своем знаменитом письме. А про Некрасова можешь даже судить по стихотворению Никитина «Поэту обличителю». Когда-то ты мне писал о Бодлере и Кропоткине, этих подлецах, о которых мы с тобой поговорим после. Жаль, что не приходится нам увидеться, мы бы поговорили чередом, а не как в письмах. На Пасху я поеду домой и не теряю надежды съездить к тебе хотя бы на один день. Недавно я устраивал агитацию среди рабочих письмами. Я распространял среди них ежемесячный журнал «Огни» с демократическим направлением. Очень хорошая вещь. Цена годовая 65 к. Ты должен обязательно подписаться. После Пасхи я буду там помещать свои вещи. Уж ты, брат, постарайся, напиши другую наклеечку. Если ты ее посылал в том письме, то, значит, ей и капут, она, вероятно, уже сгинула.
Жаль, что я не люблю писать письма. Я бы все вылил, что чувствовал. Гриша, напиши, что ты там затевал творить? Очень мне интересно знать, что бы это было.
Вот тебе стихотворение нашего современного поэта Корецкого, очень хорошее по мысли: