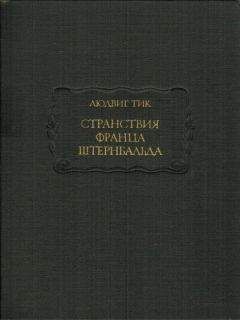Суждения о романе Тика раннеромантического кружка были в основном весьма позитивны, хотя иногда несколько отвлеченны. Ф. Шлегель писал в журнале «Атенеум» (1798, «Фрагмент» № 418): «…„Штернбальд“ соединяет серьезность и подъем „Ловелла“ с художнической религиозностью „Монаха“ ‹Вакенродера› и со всем тем, что в поэтических арабесках, составленных им из старинных сказок, в целом составляет самое прекрасное: богатство и легкость фантазии, чувство иронии и особенно сознательное различие и единство колорита. И здесь все ясно и прозрачно, и романтический дух, кажется, не без удовольствия фантазирует о себе самом»[83]. В черновиках Шлегеля осталась почти математическая формула: «„Штернбальд“ — романтический роман, именно поэтому абсолютная поэзия»[84]. Ф. Шлегель писал Каролине Шлегель (29 октября 1798 г.): «Разве вы позабыли его „Народные сказки“ и разве сама книга не говорит ясно, что она не претендует ни на что иное, что они — лишь сладкая музыка фантазии и для фантазии? — Он, должно быть, вовсе не знаток живописи, но у него есть глаза, он, подобно своему Францу, вечно работает в мыслях над картинами и больше всего на свете любит Вазари. Разве Ариосто был основательнее осведомлен в военном искусстве?» В марте 1799 г. Фридрих Шлегель пишет своему брату Августу Вильгельму о «Штернбальде»: «Это божественная книга и мало сказать — лучшая книга Тика… Это первый романтический роман после Сервантеса, и к тому же он куда выше „Мейстера“. Стиль Тика я считаю романтическим, но только в „Штернбальде“, до этого у него совсем не было стиля»[85]. В журнале «Европа», издававшемся Ф. Шлегелем в 1805 г., были опубликованы «Разговоры о поэзии Тика» Хельмины фон Шези́, венской поэтессы. Персонажи ее «Разговоров» восхищаются романом Тика: «Такой час сердечных излияний, какой предлагает нам здесь поэт, — это вечная любовь приветствует жизнь»; «Если бы я был художником, то принял бы близко к сердцу эти взгляды и усвоил бы их своему искусству…»[86]. Молодой Гофман в письме Гиппелю называет «Штернбальда» «истинной книгой для художников» (26 сентября 1805 г.)[87].
Фридрих Шлегель, очевидно, был главным ценителем романа среди всех романтиков, и это вполне закономерно, так как именно он продолжил художественно-эстетическую линию Вакенродера-Тика, занявшись изучением старинного искусства и, на основе несравненно большего и специального знания этого искусства (он видел все основные галереи тогдашней Европы), изложил в работах 1803—1805 гг. свои взгляды на это искусство, которые, надо сказать, отличались фундаментальностью и уже разработанностью специфически искусствоведческих приемов анализа. Именно работы Вакенродера, Тика, Ф. Шлегеля стали программными для «назарейской» ветви немецкого романтического искусства — для тех шести венских студентов-живописцев (среди них Ф. Пфорр и Ф. Овербек), которые, будучи не удовлетворены ретроградным преподаванием в Венской академии, основали в 1809 г. «Союз св. Луки» и отправились в Рим в поисках истинного искусства, для всех немецких художников, которые примкнули к ним впоследствии, — П. Корнелиус, Й. Шнорр фон Карольсфельд, В. Шадов и многие, многие другие. Все они видели нравственно-религиозный идеал в раннем итальянском искусстве. Рафаэль и Дюрер стали для них символами итальянского и немецкого искусства — в их идеальном союзе. Многие художники, верные идеалу художественно-религиозного единства, перешли, подобно Ф. Шлегелю, в католицизм. Тиковские «Странствия Франца Штернбальда» стали, по выражению В. Зумовского, «евангелием художественного поколения 1800 года»[88]. Франц Пфорр, самый ранний и талантливый из назарейцев первого призыва, все время работает над романом о художнике. Естественно, действие романа отнесено к средним векам, герой Тика — Штернбальд, герой Пфорра — Штернауэр; по-видимому, Пфорру не удавалось отвлечься от своего литературного образца[89].
Назарейское искусство стало видным направлением немецкой культуры. Оно было совершенно неприемлемо — по своим религиозно-эстетическим принципам — для Гете, и поэтому естественно получилось так, что роман Тика оказался в центре борьбы между приверженцами романа и его художественной системы (той системы взглядов, какую можно было черпать в «Штернбальде») и Гете, который был непримиримым врагом религиозного романтизма. В этом отношении Гете был совершенно прям и последователен; в разговоре с Эккерманом, 22 марта 1831 г., он насчитывал даже сорок лет назарейству, однако это символическое число было в данном случае некоторым преувеличением. Гете говорил тогда так: «Назарейство пошло от отдельных лиц и продолжается вот уже сорок лет. Учение заключалось в следующем: художник но преимуществу нуждается в благочестии и гении, чтобы сравняться с лучшими. Учение это льстило, и за него ухватились обеими руками. Ведь чтобы быть благочестивым, не надо было учиться, а собственный гений всякий унаследовал от матери. Достаточно высказать нечто такое, что льстит самомнению и удобству, и можно быть уверенным, что за тобой последуют многие из серой толпы»[90].
Надо знать, что Гете проницательно увидел назарейскую «опасность» для изобразительного искусства еще тогда, когда она почти не проявилась. В 1805 г. он писал в связи с высказываниями братьев Франца и Иоганнеса Рипенхаузен, живописцев, рисовальщиков: «Кто не заметит в их фразах неореалистическую сентиментальность, отшельнические, штернбальдовские бесчинства, от которых искусству грозит большая опасность, чем от всех требующих реальности калибанов?»[91] «Отшельнические, штернбальдовские бесчинства» — «klosterbrudrisierendes, sternbaldrisierendes Unwesen» — это выражение стало в устах Гете не раз повторенным крепким проклятием[92].
Знакомство Гете с романом Тика относится к лету 1798 г., когда Тик послал Гете, уже предупрежденному письмом А. В. Шлегеля, только что вышедшую первую часть романа. Гете отвечал Тику с той дипломатической изысканностью, которая приобретала у него свойства индивидуального стиля, выразительного и красивого: «С другом Штернбальдом, равно как с монахом-отшельником я пребываю в согласии — касательно всеобщего, равно как в несогласии — касательно особенного… По всему тому, что я знаю о вас, вы наделены таким сознанием собственной природы, что нет ничего более желательного, чем чтобы вы наслаждались в положенном вам кругу» (середина июля 1798 г.)[93]. В то же время Гете писал Шиллеру (5 сентября 1798 г.): «Прилагаю великолепного „Штернбальда“, немыслимо, сколь же пуст сей изящный сосуд»[94]. Однако роман Тика заинтересовал или, скорее, затронул Гете, который намеревался рецензировать его в своем журнале «Пропилеи». Для этой цели он приготовил подробную схему-конспект первой части романа. Такую форму Гете считал законным приемом проникновения в суть произведений и впоследствии иногда публиковал такие свои схемы-конспекты. Обыкновенно в изданиях сочинений Гете публикуются только заметки на полях его схемы-конспекта; однако вся она пронизана оценочными суждениями (обычно в форме назывных предложений) и заслуживает особенного внимания. Вторую часть романа Гете получил в самом конце 1798 г.
После чтения романа у Гете, по всей видимости, и сложилось решительное отвращение к «назарейским» тенденциям в искусстве, которое во многом питалось, очевидно, враждебной христианству настроенностью поэта, — современники любили называть его «язычником». И небезосновательно. Ведь и в том искусстве, в котором романтики находили органическое единство религии и искусства, Гете привлекали лишь отражения античного пластического идеала. Большинство евангельских сюжетов, особенно связанных со страданиями, Гете были совсем не по душе. В «назарейском» искусстве Гете отталкивала в первую очередь именно приверженность к традиционно-христианским живописным темам и затем — отказ от пластической полноты и идеальности в поисках целомудренно-наивного выражения образов, примитивизация художественного языка. Антиназарейская направленность Гете — отнюдь не то самое, что его взаимоотношения с романтическими течениями в целом, с романтическими поэтами, мыслителями, натурфилософами; такие складывались весьма различно, в конкретных обстоятельствах.
Прошло довольно много времени, пока Гете не решился прямо выступить против «назарейства», и случилось это вскоре после того, как Гете в 1814—1815 гг. побывал на Рейне и основательно познакомился в Гейдельберге и Франкфурте с собраниями нидерландской и старонемецкой живописи. Эту живопись, отчасти спасенную от гибели в самый последний момент, только начали тогда изучать и открывать. Имена некоторых великих художников — Мемлинга, Стефана Лохнера — еще вообще не были известны. Гете эта живопись потрясла до глубины души; об этом имеется немало свидетельств. Быть может именно после этого, после чудесного прикосновения к искусству старины во всей его подлинности, Гете захотелось размежеваться с ложными, как ему представлялось, тенденциями современного искусства.