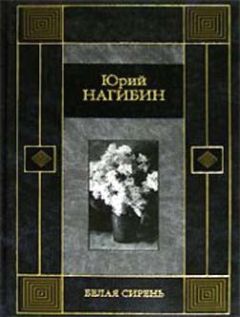Рахманинов не отвечает. Его желтое лицо с закушенной в гневе губой говорит о том, что он в ужасном состоянии. Дрожащими пальцами он пытается вставить сигарету в мундштук.
Рахманинов (зло). Я совсем выжил из ума. Я кончился.
Наталья. В чем дело?
Рахманинов. Дело в том, что был музыкант и весь вышел;.
Эллис. Чем вы недовольны? Дирижером?
Рахманинов. Дирижер был безупречен. Но даже он не смог помешать мне провалить концерт.
Эллис (растерянно). Как провалить?! Вы посмотрите, какой успех!
Наталья. Ты играл замечательно! Публика…
Рахманинов (перебивая). Но ты-то, ты-то! Ты ведь консерваторию кончила! Неужели ты не заметила?
Он встает и начинает нервно метаться по артистической.
Рахманинов (продолжая). Я ведь точку-то упустил! Точка-то у меня сползла!
Фолли (растерянно). Какая точка?
Рахманинов. Поймите же, музыка строится, как собор!.. И, как в соборе, в музыке есть верхняя точка, кульминация. И если эту точку не рассчитать правильно, то своды рухнут. Вот и сегодня я точку-то смазал, у меня все и рухнуло…
Рахманинов осекся. Дверь приоткрывается, и в нее просовывается платиновая голова Флоранс с ослепительной улыбкой.
Флоранс. Господин Эллис, я здесь!
Рахманинов (Эллису). Кто это?
Эллис. Это наш известнейший критик. Мечтает с вами познакомиться.
Фолли кидается к дверям, преграждая ей путь.
Рахманинов (недовольно). Я никого не хочу видеть.
Фолли пытается выставить настойчивую критикессу. Флоранс сопротивляется и кричит поверх плеча Фолли.
Флоранс. Господин Рахманинов, я ваша страстная поклонница!
Фолли удается выставить Флоранс и захлопнуть за ней дверь.
Фолли. Маэстро, вы будете заезжать домой или мы сразу же поедем на прием?
Рахманинов. Я ни на какой прием не поеду.
Наталья. Сережа, это неудобно.
Рахманинов. Ты поезжай. А я хочу позаниматься. (Оборачивается к Эллису.) Передайте мое искреннее извинение, но я бы хотел остаться здесь, в зале, и немножко позаниматься.
Эллис (растерянно). Остаться? Позаниматься? О, конечно! (Оборачивается к Фолли и вытаскивает из кармана пачку долларов.) Надо договориться с пожарным, чтобы не выключал свет.
Наталья (мужу). Тогда я тоже останусь.
Рахманинов (смягчившись). Нет, душа моя, поезжай, а то действительно будет неудобно.
231. (Съемка в помещении.) КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.
При дежурном освещении зал выглядит мрачным и неприветливым. Единственная лампочка освещает только часть сцены. В кулисах дежурный пожарный широко зевает и потягивается. Гулко раздаются в пустом зале аккорды рояля. Рахманинов занимается. Начинается знаменитая каденция Третьего концерта. Трагические аккорды нагромождаются друг на друга, как океанские валы. Рахманинов останавливается и смотрит себе на руки. Безымянный палец правой руки разбит, из-под треснувшего ногтя сочится кровь. Он облизывает ее, снова начинает играть. Его лицо в бледном свете единственной лампочки кажется мертвым. Глаза полуприкрыты. Музыка уносит его очень далеко…
НАПЛЫВ. ИЗ НАПЛЫВА. 232–234. (Натурная съемка и съемка в помещении.) МОСКВА. 1918 ГОД. ЗИМА. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КАДРЫ ПЕРЕМЕЖАЮТСЯ С ИГРОВЫМИ.
Засыпанная снегом с гигантскими сугробами, неубранная улица встает перед глазами Рахманинова. У костра греются несколько оборванных беспризорников. Музыка как бы подчеркивает трагичность происходящего. Замерзший труп лошади пилят пилой, разрубают на куски, а вокруг стоят голодные люди с жадными глазами и, получив свой кусок, воровато оглядываются и исчезают в подворотнях. В парадной зале гимназии какая-то фигура в рваном зипуне выламывает топором дубовые плиты паркета. Когда мы приближаемся, то узнаем старика Сатина — отца Натальи. Выломанный паркет собирает в охапку Соня — ее тоже трудно узнать, похудевшую, в грязном, засаленном ватнике. Марина на темной, холодной плите режет кусок хлеба на тонкие, почти микроскопические ломтики… Музыка концерта сопровождает эти мрачные, полные отчаяния образы…
НАПЛЫВ. ИЗ НАПЛЫВА.
Во весь экран возникает царская семья, будто на семейной фотографии: посредине царь с царицей, между ними, стоя, мальчик-цесаревич, по бокам — юные дочери — царевны. Слышится ожесточенная винтовочная пальба. Фотография покрывается дырками, из дырок течет кровь, заливая лица, одежду, руки. Сплошной поток крови. Враз кровь стекает, открывая чистые, прекрасные, истинно великокняжеские лица, и над головой каждого убиенного золотой нимб. И мы снова переносимся в «Карнеги-холл».
235. (Съемка в помещении.) КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КАРНЕГИ-ХОЛЛА». ПОЗЖЕ.
Рахманинов кончает играть. Эхо последних аккордов поглощается темным пространством неосвещенного зала. Он еще раз смотрит на разбитый ноготь, смотрит на клавиатуру: Клавиши рояля в капельках крови. Пожарный за кулисами сладко похрапывает. Уронив уставшие руки на колени, Рахманинов сидит с понуренной головой. Шорох в зале привлекает его внимание. Он вглядывается.
Рахманинов. Кто там?
В глубине зала смутно белеет лицо Натальи.
Наталья. Это я.
Рахманинов. Ты что, не пошла?
Наталья. Я пришла. Уже два часа ночи.
Рахманинов. Какой страшный для России день! Страшный и позорный. (Опускает голову.) Мы бросили там их всех…
Откуда-то издалека возникает хор из второй части симфонической поэмы «Колокола». Наталья с нежностью и тревогой смотрит на эстраду, где под одинокой тусклой лампочкой перед черной громадой рояля сидит сутулая, неподвижная фигура. Музыка ширится, растет. Вот мы уже в…
236. (Съемка в помещении.) КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ. ФИЛАДЕЛЬФИЯ. 1918 ГОД.
Репетиция в разгаре. На сцене — огромный хор и оркестр. Все одеты по-разному. Музыканты без пиджаков. Дирижер — вы сразу узнаете его — высокий лоб, заносчивый профиль, аристократические манеры — Леопольд Стоковский. В зале разбросаны то тут, то там десятка два счастливчиков, «допущенных» быть свидетелями священнодействия. В седьмом ряду Рахманинов с Натальей, за ними — Фолли. Наталья смотрит на Рахманинова. Он весь погружен в музыку, и крылья его носа едва заметно раздуваются, когда он вторит про себя мелодию. Стоковский обрывает музыку, стучит дирижерской палочкой по пюпитру.
Стоковский. Ну что же, это неплохо. (Поворачивается в зал.) Мистер Рахманинов, у вас есть какие-нибудь пожелания?
Рахманинов встает, шаркая ногами, идет по проходу, поднимается на сцену. Сто пятьдесят человек хора и музыкантов с любопытством смотрят на него. Рахманинов, смущенный вниманием, наклоняется к партитуре, находит нужное место и очень тихо говорит со Стоковским.
Рахманинов. Вот здесь. (Он напевает по-русски.) «Забвение… Забве-ение».
На сцене — мертвая тишина. Музыканты, затаив дыхание, пытаются уловить, о чем перешептываются два великих. Молодые и старые, красивые и неприглядные — все лица, все взгляды — все направлено на композитора и дирижера. Рахманинов смотрит на Стоковского.
Рахманинов (продолжает). Понимаете? «Обливиэн».
Стоковский. Ах, «обливиэн»!
Рахманинов. А что, хор не знает перевода?
Стоковский (разводит руками). Хоровые партии не прислали вовремя. Я потерял две репетиции, и хор зубрил слова на слух.
Рахманинов. Значит, они не понимают?
Стоковский. Боюсь, что нет.
Рахманинов. Не понимают, а поют. И как поют! Как играют!
Стоковский (шепотом). Вы удовлетворены?
Рахманинов (в тон ему). Исключительно хорошо!
Стоковский (кивает в сторону оркестра). А вы скажите им. Это им будет приятно.
Рахманинов (нерешительно). Не надо.
Стоковский (не слушая его). Господа! Маэстро Рахманинов скажет вам несколько слов.
Голоса из оркестра. Просим! Просим! Пожалуйста!
Рахманинов (музыкантам). Дамы и господа! Дорогие коллеги! Америка — страна лучших в мире оркестров. Но должен сказать вам, что ваш оркестр, Филадельфийский, наверное, лучший в Америке.
Шум одобрения протекает по рядам музыкантов. Лица их освещаются улыбками и гордостью.
Рахманинов. А какой хор! Ужасно досадно, что вы должны петь по-русски, не понимая. Текст Эдгара По изумителен! Как же вы будете петь, если будете понимать! (Он напевает.) «Забве-енье…» Обливиэн. Это душа, понимаете?