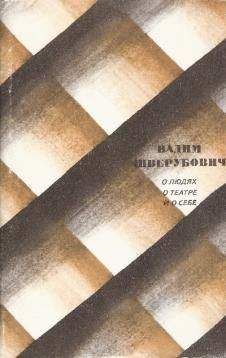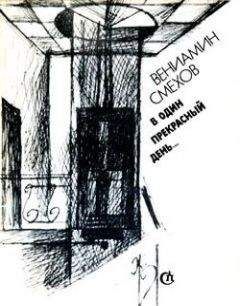Сулер ко всему этому относился гораздо легче и, любя и ценя мою мать, считал в то же время, что эти барские привычки надо в ней истреблять, что она лучше, чем сама себя выказывает, что в ней «барство» наносное, и, главное, считал, что лучше не испорченной человеком природы на свете ничего нет. Он ответил короткой телеграммой: «Приезжайте — будете довольны. Сулер». Наши поверили этому сообщению и, заехав на несколько часов в Москву, в которой даже квартиры не было, поехали в Крым.
Помню красивый Севастополь с его аквариумом и путешествие на пароходике до Ялты и на катере от Ялты до Алушты. Это было мое первое морское путешествие, первая встреча с морем. Была мертвая зыбь. Я запомнил ее как «мертвый язык» — морской болезнью страдали все, я один был бодр и весел и требовал, чтобы меня вели на палубу или отпустили туда одного. Повел меня, так как одного меня не пускали — «его же смоют волны», — зеленый и шатающийся от морской болезни Подгорный (Бакуля, как его почему-то звали у нас в доме). Никаких волн не было, но пароходик, действительно, качался и укачивал всех пассажиров. Митци моя выла и молилась, она как-то особенно страдала. Я чувствовал свое превосходство и был им горд.
«Профессорский уголок» оказался прелестным местом, но удобства были сомнительными. Вместо кроватей были козлы с досками, на которые клали мешки, набитые соломой или водорослями; белья постельного не было — спали на ряднах и укрывались ими же. Посуды было «крест да пуговица». Но было так красиво, тепло и душисто, Сулер и его очаровательная добрейшая жена Ольга Ивановна были так веселы и радушны, что моя мать махнула рукой на все свои вопросы и запросы и решила жить «как птицы небесные», как ее учил жить Сулер.
Через два дня в Ялте должен был идти спектакль «Сын мандарина», который организовал и в котором участвовал Сулер. Все взрослые отправились туда. В нашем отстоящем довольно далеко от других домов домике остались только дети и прислуга во главе с моей Митци.
Я проснулся на раннем рассвете, дрожа от холода, сидя под кустом на одеяле — в четырех-пяти саженях от меня пылал наш дом. Другие ребята — Митя Сулержицкий и Тамара и Лель (племянники О. И. Сулержицкой-Поль) — сидели недалеко от меня и таращили заспанные глаза на огонь. Кухарка выла, нянька Полей кидалась в огонь, пытаясь хоть что-нибудь спасти. Митци ухитрилась вытащить все наше имущество, которое за неимением шкафов лежало в чемоданах, и ругала на своем русско-балтийском диалекте «глюпых думкопфов» и «русских таугенихтсов», затеявших эту сумасшедшую поездку, когда можно было жить на Остзее со всеми удобствами и в цивилизованной стране, а не среди «диких татар».
Дом догорел весь, и крыша рухнула и провалилась между сложенными из дикого камня стенами.
Утром появился Сулер прямо из зарослей, посмотрел, присел от удивления, проверил — целы ли все, и исчез в кустах. Он ехал с моими родителями и с Ольгой Ивановной на извозчике, и, когда начался «серпантин» (петляющая дорога), его охватило нетерпение, он выскочил и взбежал по крутизне к нашему поселку. Исчез он, чтобы встретить всех и подготовить к страшному зрелищу.
Мать рассказывала, что он скатился с обрыва прямо под ноги лошадям так, что они чуть не встали на дыбы, и сказал: «Все живы и здоровы, но дача сгорела, не пугайтесь». Через два‑три поворота им открылась картина пожарища. Нас все щупали, целовали, плакали от мысли, что бы могло быть, если бы… Целовали и благословляли гордую Митци, которая первая услышала запах дыма и разбудила всех, когда крыша была уже вся в огне.
Мать вспоминала, что в первую паузу Василий Иванович сказал: «Вот уж действительно: „Приезжайте — будете довольны. Сулер“». И, несмотря на весь трагизм, на все слезы и вздохи, вся компания во главе с Сулером грохнула от неистового смеха. Эту фразу в нашей среде повторяли десятки лет, когда случалось что-нибудь не соответствующее ожиданиям или надеждам.
Кроме сгоревшего дома на участке стояла еще частично застекленная беседка. В ней вповалку на полу поселились все «погорельцы». Из камней, оставшихся от сгоревшего дома, сложили печку-очаг (когда клали печь, я ухитрился ввалиться и сесть в кадку с жидкой глиной — тут родилось знаменитое сулеровское «от бисова тиснота!»), и жизнь продолжалась совсем уже «по-простому», что так нравилось Сулеру, а потом было оценено и всеми.
Сулер воспитывал всех. Самого ленивого из компании, Василия Ивановича, он заставлял собирать дрова, мыть посуду (это было нетрудно, посуды было меньше, чем едоков), приносить с огорода редиску. Как-то он спросил: «А почему нет редиски?» Отец ответил: «Никто не хочет». — «А ты спрашивал, сукин сын?» — и погнал его на огород, подхлестывая по ногам веревкой.
Каждое утро Сулер собирал всех жителей от мала до велика «на великий совет племени» и распределял, кто что делает. Портила дело Митци — она была слишком взрослой, не такой «сумасшедшей», по ее мнению, и слишком глупой, по мнению Сулера, чтобы играть в индейцев, как глупые мальчики, и не приходила на совет. Остальные же все являлись и весь день выполняли намеченный план работ и занятий. Работа заключалась в собирании горючего, уборке «вигвама» и его окрестностей, приготовлении пищи и т. п. Один из взрослых должен был «пасти» детей.
Нашим праздником было, когда «пастухом» бывал сам «дядя Лёпа». Он делал это необыкновенно талантливо, каждый раз придумывал какую-нибудь новую игру-задание. То мы были робинзонами на необитаемом острове и обследовали его вдоль и поперек, выясняя, какие растения можно есть, какие нельзя и почему, что из растущего и как можно использовать. То мы попали в безводную пустыню и нашли в ней источник — надо было очистить его и сделать резервуар для воды. То мы искали алмазы и для этого изучали песок и гравий в море. Эти игры помогали нам познавать природу и делать полезные людям дела — мы обнаружили, очистили и обложили камнями несколько источников питьевой воды, которая так дорога в Крыму.
Мне кажется, что мы все получали очень много от этой жизни и игры, все, не только дети, но и взрослые, если они не были такими безнадежными мещанами, как моя бонна. Но такая была одна она, все остальные играли с удовольствием. Засыпал я всегда под пение, руководимое Сулером, под его рассказы, прерываемые веселым хохотом и восклицаниями. Дальше я еще раз вернусь к Сулеру — третья встреча моя с ним была уже более сознательной, чем первые две.
Не помню, что было причиной нашего отъезда, но в середине лета наше семейство переехало — с коротким заездом в Москву, где мы жили в меблированных комнатах какой-то родственницы, кажется крестной матери Н. А. Подгорного, — в Тверскую губернию, в имение Панафидиных — «Марицыно». Там была снята дача, вернее, флигель — служба при барском доме. Места были красивые, хорошие луга, леса, узенькая лесная речка. Много грибов и ягод. Из смешного помню быка под названием Румянцев. Это был огромный рыжий бык с кольцом в носу, очень злой, считавшийся опасным, но наши, главным образом живший с нами Н. А. Подгорный, приучили его подниматься по нескольким ступенькам к нам на террасу и мычанием выпрашивать хлеб. Морда у него в это время делалась, как говорила мать, «прохиндейской». При хорошем отношении и злое существо делается ласковым, это мне внушали и доказывали и словами и примером.
Из страшного, тревожного я запомнил разговоры об арестах и казнях революционеров и возможности новой вспышки революции. Об этом все время говорили и спорили. Возможно, что из-за этого мы раньше уехали из Крыма, боялись, что в случае железнодорожной стачки, которой ожидали, мы будем уж очень далеко отрезаны от Москвы. Тверская губерния была ближе, можно было бы и на лошадях доехать. Там же, у соседей Панафидиных, у каких-то потомков пушкинских Вульфов, жили Санины, тогда очень дружившие с моими родителями.
Александр Акимович Санин был одним из основателей Художественного театра, он работал с Константином Сергеевичем в Обществе искусства и литературы. Женой А. А. Санина была Лидия Стахиевна Мизинова (Лика).
Еще одно, имевшее большое значение для всего нашего семейства, а для меня особенно, событие явилось результатом этого лета и посещения имения Вульфов: нам там подарили щенка, жесткошерстного фокстерьера, сучку по имени Джипси. Эта собака прожила со мной все мое детство, отрочество и раннюю юность. Это была моя первая «собачья любовь». От пяти до восемнадцати лет она была мне после родителей самым близким существом на свете. Когда мы с отцом, я в тридцать, он в пятьдесят шесть лет, вспоминали самые счастливые минуты нашей жизни, то одной из самых счастливых моих минут оказалась та, когда вернулась домой пропадавшая три или четыре дня (видимо, украденная) наша Джипси. Отец подумал и сказал, что, пожалуй, это утро было и для него если не самым большим счастьем, то, во всяком случае, радостью, оттого, что миновало очень большое горе. Для меня Джипси была другом моего детства (я рос без братьев и сестер); для родителей привязанность к ней была большим и серьезным чувством. Это не было ни кривляньем, ни сантиментом — собака всегда была у нас близким и родным существом. Без собаки не жили никогда.