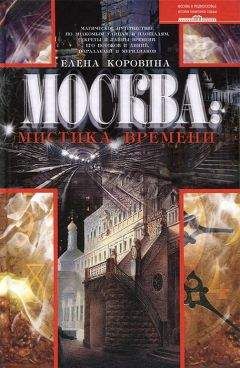— После раздела МХАТа на мужской и женский с Татьяной Васильевной Дорониной вы здороваетесь?
— Здороваемся.
— Вы замирились?
— А мы никогда и не ссорились. Даю слово. Всегда здоровались.
— Но это вам не помешало разделить МХАТ.
— Это совсем другое дело. В гости не ходим друг к другу. И романа тоже не было.
— Заметьте, не я вас это спросила. А вы могли бы, как Станиславский, от своего имущества отказаться в пользу МХАТа?
— Станиславский деньги разумно давал. Он, например, ехал в Париж, через месяц возвращался и свою золототкацкую фабрику пере- (сейчас это модное слово) перепрофилировал и стал производить кабель. Вот фабрика на Таганке «Москабель» — это все Станиславский. Вы спрашиваете: «Отдам ли?» Ну, Господи, наверное, отдам в конце концов, если это будет так необходимо.
— На протяжении многих лет МХАТ гордился своими традициями, еще были живы те, кто работал с Станиславским. Теперь их нет? Скажите, что сейчас является стержнем МХАТа?
— Вы почитайте о взаимоотношениях Станиславского и Немировича-Данченко. И там Станиславский уже в какие-то годы это поколение не очень принимал. Я имею в виду то поколение, которое ушло. Осталась одна Степанова (Ангелина Степанова уйдет из жизни за неделю до смерти Ефремова — М.Р.). Станиславский очень чувствовал и понимал людей. Как мне рассказывали, он собрал артистов в портретном фойе и призвал чуть ли не со слезами на глазах: «Клянитесь продолжать именно это искусство». А они посмеиваются, ну, мол, старик уже совсем… Вот я и хочу, чтобы этот стержень возник бы.
— Значит, его нет?
— Ну он есть. Но это не стержень, а что-то другое — знакомое, ясное, но, ей-богу, не развиваемое. Понимаете?
— Понимаю. Так же, как и понимаю, что МХАТ сейчас находится в сложном положении. Это закономерный тупик?
— Да вы знаете, этот сезон показал, что не тупик. Пять премьер выпустили.
— А почему вы, Олег Николаевич, решили ставить сейчас «Сирано де Бержерака»?
— Это вещь о какой-то идеальной любви и какой-то идеальной, к какой надо стремиться, жизни.
— С годами меняется представление о любви?
— Меняется. Это не внешность, в конце концов.
— Но вы-то как раз ставите про урода Сирано и красавицу Роксану.
(Пауза.)
— Это какая-то… поверьте… у меня для ответов нет домашних заготовок. Роксана — это женская сущность, которая состоит из смеси секса и тонких ощущений. «Могла ли полюбить урода?» «Да, да, урода, если душа…»
— Не знаю, что сказать.
— Вот и я не знаю. «Сирано» должен быть эмоциональным спектаклем. Будет начинаться с пролога: современная кухонька, сидит в трусах парнишка, кофе пьет, курит, пишет. К нему жена в неглиже. «Да подожди ты, я еще зубы не чистил». Вот идет такая сцена, где мне надо зарядить комплексы Сирано. Дальше надо играть.
— Это говорит о том, что у вас какой-то новый период в жизни?
— В смысле любви? Сейчас нет.
— Жаль.
— Жаль. Мне тоже. Но, может, еще подождите… Вот я, может, как-то немножечко пристроюсь со здоровьем. И тогда, ей-богу, появится сразу.
Снова вставил трубочки в нос. Подышал.
— Вам трудно ходить без аппарата?
— Выходить мне трудно. Вот меня привозят в театр, я сажусь и репетирую.
— Мне кажется, ваше детское прозвище — Лисья мордочка — очень точно. Мы сколько беседуем, но вы очень хитро избежали ответов на некоторые вопросы. Вы меня хорошо отрежиссировали — то сигаретка, то аппарат…
— Ну я не знаю, давайте еще раз попробуем. Вы думаете, я хитрый?
— О чем в жизни жалеете?
— Да ни о чем.
— Так не бывает.
— Сейчас не хочется в этом копаться. Нужно определенное самочувствие, а я читать сейчас не могу. Понимаете? Когда все время задыхаюсь — это… Я воспринимаю себя ужасно. Такой беспомощный, то есть надежда все время куда-то убегает. Вообще утром мне, чтобы встать, надо несколько часов потратить. Но не жалуюсь, а просто вы спросили.
— Недавно в мемуарах драматурга Ионеско я прочла, как он ругал себя, что вся его творческая энергия направлена, извините, на прямую кишку. Он описывал, и достаточно иронично, свой поход к сортиру…
— А мне как дойти до него… (Смеется.) Я даже и читать не могу.
— А что, операция, которую вам делали в Париже…
— Да никакой операции не было. Отрабатывали терапию. Сказали, что, может быть, если сделать операцию, легкие интенсивнее работать будут. Тань, можешь ты забрать эту чертову пепельницу?!
И пепельница исчезает со стола.
— У меня было состояние, что я готов был пересадку легкого делать. Но это сложно. Сейчас вот надо достать аппарат, который фиксирует процент кислорода в крови. И тогда, может быть, не надо будет все время сидеть привязанным к аппарату.
Замечательный сериал «Скорая помощь» — как подробно, как все знают, как проживают. Вы не смотрите?
— Смотрю, конечно. Американским артистам веришь.
— Ну вот видите, у нас с вами идеалы сходятся. Вы знаете, когда я играл в сериале «Дни хирурга Мишкина», я получал письма с просьбой, чтобы я кого-то прооперировал, и так далее, и так далее. Мне это нравилось.
— Это правда, что когда три года назад ваш сын Миша в театре ударил человека, вы заплакали?
(Пауза.)
— Я не плакал. Я сидел. Я так растерялся. Я не понял, что это такое. Шок.
— Какие у вас сейчас отношения с сыном?
— Ну какие? Он навещал меня в больнице. Сейчас я с ним не вижусь. Хотя он был добрый малый, доброе сердце у него. Но… (Очень резко.) Во МХАТе ему не надо быть.
— Мне кажется, что все его последние поступки — это проявление страдания. Он страдает и от этого совершает все больше и больше ошибок.
— Но он же взрослый человек. Тридцать шесть лет. Нет, в детстве я его физически не наказывал.
— Я чувствую, что это самая неприятная для вас тема.
— Да как-то… Пускай.
— А вы ему делаете подарки?
— Я даже не знаю, как вам сказать. У них вообще с сестрой в детстве был закон — «если уйдем из дома, ничего у отца не сперев, то это мы дураки просто». Они сами мне это потом рассказали.
— Родственные связи сильнее театральных. Вы уволили сына сами или под чьим-то давлением?
— Нет. Сам. Даже не может быть такого вопроса — зачем. Это было — верх всего. Очевидно, вы не в курсе, как он существовал, как вел себя…
— Я понимаю, что это не самый приятный вопрос. Но перед каждым человеком, особенно перед руководителем, стоит рано или поздно вопрос ухода — оставить…
— Театр? Ну я, вы знаете, уже несколько раз пытался. Но я понимаю так, что сейчас будет нечестно, потому что нужно, чтобы была ясность и порядок в театре. И тогда я с чистой совестью его передам.
— Одним словом, вы не хотите оставить плохое хозяйство?
— Ну вот так будем говорить.
— Ельцин ушел и оставил преемника. Вы думали о преемнике?
— Думал. И даже говорил. Я имел в виду Олега (Олег Табаков. — М.Р.). В прошлом и в этом году я лежал семь раз в больнице. Я уже ненавижу это. Он ко мне приезжал, и я ему сказал все. Он молчал, и я молчание расценил как знак согласия. Но когда его стали спрашивать, он вдруг отказался: «Я своих не оставлю». А когда говорят: во МХАТ придет Калягин или Юрский — это миф. У Калягина свой сейчас театр.
— А вам все равно, кто будет МХАТом руководить?
— Нет. В этом-то вся и штука, что нет.
— А вы видите такую фигуру?
(Пауза.)
— Ну вот думаю… Пока нет… Олег Табаков… Так что такие сейчас дела. Я думаю, что не буду порывать с театром, в студии буду что-то делать и в театре найдется всегда работа.
— Я надеюсь, вы не обиделись на мои вопросы?
— Нет. Все справедливо, правильно.
Эти цветочки, вот в вазе, это для вас. Я не хотел сначала, а то подумаете, что я на вас воздействую так.
А через два с лишним месяца его не стало. Удивительно, что он умер так же неожиданно, внезапно, как и жил.
Да, все знали, что Ефремов тяжело болен: давнее заболевание легких, в последние месяцы он дышал с помощью кислородного аппарата. Но при всем при том не ныл, мужественно держался, смеялся, когда мы говорили по телефону: «Я думаю, все будет в норме», — говорил он со своими знаменитыми паузами после каждого слова и не раскисал. Репетировал в театре, а рядом стоял аппарат. Когда не мог выйти из дома, актеры сами приходили к нему и в небольшой квартирке на Тверской раскручивали историю «Сирано». Все время думал о реформах в Художественном. Он гнал дела, чтобы в конце июня показать узкому кругу первый прогон. И вдруг…
Это случилось в среду, 24 мая. Час — неизвестен. События того дня я попыталась восстановить по часам. В 11 утра в квартиру Ефремова пришла домработница. Как всегда, приготовила кашу, чай. Олег Николаевич еще был в постели и сказал, что встанет попозже. В этот день он явно не спешил в театр, потому что репетиция отложилась. Но совсем не по причине его плохого самочувствия.