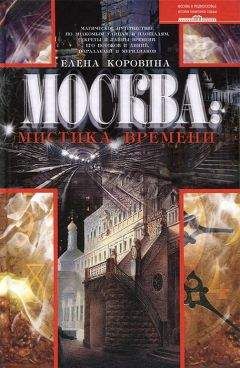— Но тогда, Кирилл Юрьевич, вам было двадцать пять, а сейчас семьдесят два. Сейчас вы верите в справедливость или возможность справедливости? спрашиваю я вас, спрашивают себя нормальные люди.
— В этом смысле я давно потерял надежду.
— А вы не жалеете, что так и не получили актерского образования, став на самом деле очень сильным профессионалом?
— Как не жалел? Всегда чувствовал, и по зарплате, которая была самой маленькой. И тогда, когда меня предложили перевести из вспомогательного состава в основной — коллеги возмутились: «Как можно? У него же нет образования».
— У вас такая актерская фактура, что мне трудно поверить, будто вам по-настоящему может удаться роль негодяя.
— Но почему же? Я играл плохого секретаря обкома в фильме Трегубовича. Я убил Тузенбаха в «Трех сестрах» у Товстоногова. В «Четвертом» я сыграл акулу капитализма — Чарлза Говарда, и после этой роли меня как артиста наконец признал отец. Я играл одну из своих любимых ролей — Молчалина в «Горе от ума».
Ой, да я вижу, я вас совсем обкурил. Сейчас форточку открою.
— Спасибо за заботу о трудящихся. Но Молчалин — это вершина вашей мерзости? То есть не вашей лично.
— Да. Сперва я репетировал его бездарно. Но Товстоногов использовал мою фактуру, узнаваемость, и это ложилось на его современное видение молчалиных. Ведь он же, Молчалин, на цыпочках и не богат словами, а делает все расчетливо, ради карьеры. Я таких много видел инструкторов, депутатов, которые отлично понимали, что живут не по совести, а как надо.
— Вот! Ваша депутатская жизнь — отдельная глава. Но прежде — мне кажется, вы недооцениваете собственные возможности в создании образов негодяев. Вот ведь Ленин — ваш персонаж, не отпирайтесь.
— Тут все неоднозначно. Я все-таки не верю в таких людей, которые с юности становятся мерзавцами. Вот смотрите — маленький, плюгавенький, лысенький, и в течение года он объединяет, организует и заваривает такую бучу… А ведь до него были люди. Как этот смог?
— Кстате о внешности вождя. Тому, что Калягину дали роль Ленина, я нисколько не удивляюсь — маленький, плотненький, динамичный. А вы — с мужественным, даже красивым лицом, с военно-спортивной выправкой. Спокойный, если не сказать флегматичный. Опять же волосы на голове имеются.
— На Ленина я пробовался на «Мосфильме» у покойного режиссера Рыбакова полное фиаско. И после этого отказал Трегубовичу, который затеял снимать «Доверие». Он прислал ко мне в театр гримера, и тот чего-то подклеил, подрисовал кисточкой на моем лице. Надели кепку и… меня утвердили. А тут еще в Финляндию на съемки надо было ехать. Опять же приятно. Кеша Смоктуновский играл — вдвойне приятно. В театре я сыграл Ленина четыре раза и дважды в кино. Критики нашли, что у меня ленинский прищур и я говорю голосом Ленина… Нет, с ним все неоднозначно. Все его жестокости известны, а наряду с этим показная (а может, и непоказная) простота и скромность. Ведь он своего коменданта за спиленное дерево разжаловал.
— Конечно, разжаловал, а ведь мог бы и бритвой по горлу. Кстати, а сколько стоила Ленинская премия, которую непременно получали все воплотители его образа в искусстве?
— Десять тысяч рублей.
— А помните, что приобрели благодаря Ильичу?
— У меня тогда сгорела дача, и я построил фундамент. Потом пять лет работал и снимался в эту дачу. Так что она у меня памятником стоит Владимиру Ильичу.
— Вот ведь феномен: благодаря Ульянову-Ленину вы укрепили свое материальное, профессиональное и общественное положение. Но у вас есть роли замечательные, с моей точки зрения, которые никак не отмечены. Например, роль Нила в спектакле «Мещане». Его иногда по телевизору показывают.
— А я тебе скажу, почему не получалось ничего. На гастролях в Румынии нас принимал Чаушеску — тогда секретарь по идеологии ЦК. Так он мне сказал: «Глядя на вашего Нила, понимаешь, что придет тридцать седьмой год».
— Кирилл Юрьевич, я ошибаюсь или нет: когда актер, самое зависимое существо, становится начальником, чиновником, как вы, — это приятно, это греет душу после стольких лет зависимости?
— Да что в ней приятного, в должности? Вся моя общественная карьера строилась без моего участия.
— Позвольте вам не поверить.
— Клянусь тебе! Мне звонят: «Будем вас двигать в депутаты». Бац — выбрали. Потом умер замечательный артист Толубеев, и меня выбрали председателем питерского ВТО. Образовался Союз театральных деятелей СССР — меня избрали президентом.
— То есть, вы лежите, курите, а вам сообщают, что вы уже… депутат.
— Депутатство — это вообще выдуманный буферный институт между народом и властью. Причем этот буфер ничего не может сделать. Я принимаю жалобы от людей, иду к начальству, и меня посылают. Если мне что-то и удавалось, так только в силу известности. Я был счастлив, когда меня люди приглашали на новоселье и в честь меня называли сына. А потом у меня — армейская закваска, я старался делать все как можно лучше.
— А вы пользовались ленинским обаянием?
— Это интересно: я чувствовал, что свет ленинской роли на чиновников действует, просители ко мне апеллировали: «Вы же для них Владимир Ильич». А однажды я ехал на дачу, зашел в сельпо, а там какая-то бабулька как завопит: «Ленин, Ленин!» — и пулей вылетела.
— Это замечательно, что как депутат вы помогли многим людям улучшить жилусловия. Но лично мне хотелось бы понять, как чувствуют себя демократы-депутаты того исторического съезда Верховного Совета, когда при их молчаливом участии захлопали и унизили Сахарова? Не сочтите это претензией моего поколения к вашему, но все же…
— …
— ???
— …Тогда зал был разделен на две части — одна захлопывала, другая демократически настроенные люди… Все правильно. За такие моменты приходится раскаиваться всю жизнь. Я тоже считаю, что когда была устроена обструкция Андрею Дмитриевичу, то какую-то акцию мы должны были сделать… Но… Стыдно… До сих пор.
А потом, я ведь все понимаю, общественная лабуда мешает моей актерской профессии, и кое-кто из моих коллег считали и, наверное, до сих пор считают, что я всего добился, потому что коммунист, депутат. А с другой стороны, когда после смерти Товстоногова все мои товарищи тайным голосованием выбрали меня худруком, это что-то значит.
Да не люблю я эти интервью. Человек начинает выдумывать чего-то, врать. Вот я тебе наврал.
— ???
— Помнишь, спрашивала, когда страшно? И я сказал — стукнули по башке. Да не страшно было. Больно. А испытывал страх, когда мой сын в критическом возрасте лет четырнадцати-пятнадцати, в два часа ночи возвращался домой. Я вообще безумно всегда боюсь за своих детей. Животный страх испытываю, хотя никогда не показываю.
— А при столь трепетных отцовских чувствах вы могли бы на себя взять материнские обязанности?
— Да нормально это — бояться за своих детей. И потом, я же Дева, хотя грудью не кормил, обеды не готовил.
— Последняя роль в кино — авторитет криминального мира Барон. Как вы, народный артист, экс-депутат и экс-председатель Театрального общества, докатились до такой роли?
— Я начал катиться с самого начала. Одна из первых ролей в кино — это вор в законе Ленька Лапин по кличке Лапа в картине «Верьте мне, люди». И там, кстати, мне на лице сделали шрам. Когда режиссер Владимир Бортко начал снимать «Бандитский Петербург», он вспомнил моего героя и предложил сделать такой же шрам.
А кроме того, я этого Барона, между прочим, знал.
— ???
— Я вспомнил, что как-то лет пятнадцать-семнадцать назад шел в театр вдоль Лебяжьей канавки. Вдруг ко мне подошел человек интеллигентного вида, с женой: «Кирилл Юрьевич, мы вас прекрасно знаем. Мы ваши поклонники. Вы случайно не интересуетесь стариной?» — «Интересуюсь», — отвечаю я. И он протягивает мне карточку, на которой написано: «Юрий Михайлович такой-то, главный эксперт по антиквариату». Где эксперт? У кого эксперт? Но я запомнил и визитку, и этого человека — худощавый, сутуловатый, с очень умным лицом и хорошей речью. В сериале он так и остался Юрием Михайловичем по кличке Барон. Хотя на самом деле у него кличка была Горбатый.
— Какое знание криминального мира, однако…
— Зря иронизируешь. В этом народе много интересных личностей встречается. Особенно раньше. Сейчас — так, мелочь с кулаками и цепями. Я серьезно изучал этих людей. И мне еще на первой картине помогал уголовный розыск Ленинграда.
— Но ваша последняя театральная роль — господин Маттиас Клаузен семидесяти лет в «Перед заходом солнца»… Я хочу спросить, основываясь на чем, можно сыграть последнюю любовь очень старого человека?
— Ты спрашиваешь, возможно ли влюбиться? Абсолютно возможно. Дело все в том, что душа остается молодой. Это дряхлеет тело, оболочка изнашивается, как автомобиль. И его надо выбрасывать на свалку. Ну и потом я же актер, и у меня есть возможность пофантазировать на тему любви.