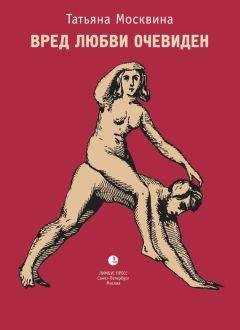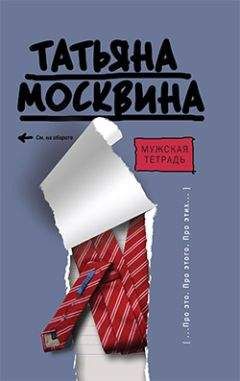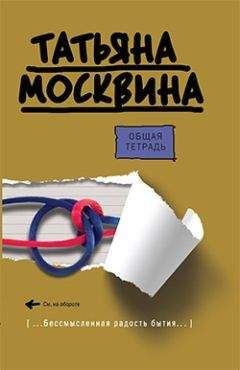– Вы играли Дарью, такую нутряную женщину, которую, кажется, породила сама степь. А сейчас мы наблюдаем, что далеко актриса Людмила Чурсина отошла от этого народного типа, и часто играет и цариц, и вообще нечто загадочное – например, саму Смерть в спектакле «Та, которую не ждут».
– В пьесе Касоны «Та, которую не ждут» роль действительно очень опасная. Ее величество госпожа Смерть. Но там настолько потрясающие тексты и монологи, когда она говорит: «Вы меня удивляете. Я слышу, как все вы жалуетесь на жизнь, почему же так боитесь лишиться ее?» Мудро. Дети так часто, не ведая того, играют со смертью. В общем, мы все ходим на острие жизни и смерти, но забываем о том, что мы смертны. И слава Богу! Хотя, как говорил Толстой, день, прожитый без смертной памяти, – напрасно прожитый день. Но к этому приходишь только с годами. Мало кому с юности дается это ощущение конечности земного пути, хотя бывает. Нужно ценить каждый день, нужно ценить живых при жизни – в общем, целая философия. Я брала благословение: пошла к батюшке, сказала, что предложили такую работу, и он меня как-то убедил. А вообще я уже давно интересовалась этим явлением, не менее великим, чем рождение. Оно до сих пор для нас закрыто, непостижимо…
Я купила огромную книгу «Хроники Харона», в которой описывается, как в течение тысячелетий люди уходили из жизни. Это момент самовыражения окончательный. Редко кому удается в эти последние секунды что-то сыграть. Нужно обладать силой и к этому идти, чтобы красиво уйти. Я стала интересоваться, какой культ смерти существует у разных народов. Сейчас я понимаю, что когда мы плачем, провожая близкого, родного человека, – мы себя жалеем, мы плачем о себе, о том, что мы остались одни. Спектакль может помочь людям мудрее, спокойнее, естественнее относиться к неизбежному, достойно принимать неизбежное.
– Но вам, как ни смешно это звучит, удалось сделать Смерть очень живой. Она выполняет некое веление рока, она на работе, работящая женщина, причем несчастная и одинокая. Вы говорили о том, как вам приклеили ярлык «русская березка», а тут ничего похожего – в экзотической испанской пьесе играет Людмила Чурсина, даже не женщину, а что-то, некое существо, и при том наполняет это жизнью, обаянием. И последняя ваша работа, Лив Штайн в спектакле «Игра на клавишах души», – это женщина интеллигентной профессии, пианистка. Скажите, вам важно понять изнутри свою героиню и как-то пристроиться к той почве, из которой она выросла?
– Да. Я пытаюсь. И режиссер Александр Васильевич Бурдонский, с которым мы выпустили уже четвертый спектакль, всегда требует, чтобы мы знали биографию своих героев, фантазировали. Пьеса очень сложная – о любви, о чуткости. Героиня – великая пианистка с гениальным слухом, но лишенная другого слуха, к близким… Героиня потеряла сына, собственно, она его и не знала, будучи одержимой Рахманиновым, и муж у нее был постольку-поскольку. И когда ее девятнадцатилетний сын уходит из жизни, она бросает сцену, пианино убирает в подвал и четырнадцать месяцев пьет лекарства, она опустилась, в какой-то саркофаг себя заключила. Появляется молодая девочка Лора, которая знала Генри, ее сына, и тут начинается детектив. И в конце концов Лора ее вытаскивает из саркофага, героиня возвращается к музыке. Но кончается все, к сожалению, трагически.
У спектакля такой эпиграф: «Ни один ангел не спустится к тебе поприветствовать тебя. Здесь только ты и я». То есть нам судьбой посылаются иногда ангелы, но мы не умеем их распознавать…
Вы правы, надо как-то приручить характер героини к своей природе. Поступки должны быть убедительны на сцене, даже если мне что-то в ней чуждо. И режиссер этого требует, и в своей жизни пытаешься находить какие-то подобные ситуации. И их очень много, поверьте. Нам только кажется, что мы белые и пушистые. А когда залезешь в свой багаж – там все есть, может, не в такой степени, не так ярко проявленное, но эти качества, инстинкты в нас остались. Меняются обстоятельства, прогресс технический, а человек очень медленно ползет.
– У вас большие залы, даже Малый зал большой – мест пятьсот. Но как-то заполняется, вы же и заполняете, собственно говоря. Я очень рада, что вы выходите на сцену. Как я когда-то сформулировала, ничего не важно, а важно, чтобы птичка в груди пела, просыпаешься – она поет, ты спрашиваешь – будем жить? – будем. Птичка поет, хочется идти на сцену, новые роли осваивать, есть такой жизненный тонус?
– Тонус, собственно, и держит на плаву. Есть необходимость себя держать в хорошей форме, хотя это с каждым днем все труднее. Я понимаю, как актерам сложно уходить со сцены, может быть, лучшая смерть – на спектакле: отыграл, упал и до свидания, зрители, помните меня такой яркой, живой. Но здесь уж как кому на роду написано.
2014Человек символом быть не может. Колебания невесомых частиц создают весьма плотное тело, которое всегда может выкинуть какой-нибудь кунштюк: отдельную личность, скажем, объявляют олицетворением «всего высокого и прекрасного», а ей скучно, она боится смерти, делает глупости, работать не хочет или вообще вдруг склоняется к суете. И чихать ей, личности, что кому-то там непременно нужно иметь идеалы, и поэтому кто-то должен эти идеалы «воплощать». Причем бесплатно.
Как говорится, вам нужно, вы и воплощайте. А то навьючат груз общественных упований – и вперед, моя лошадка. Еще и отчитывать станут, если шаг собьется. Сами-то не пробовали «олицетворять» и «воплощать»? Попробуйте на досуге, что ли.
Но Сергея Симоновича Дрейдена нагружали, грузят и будут грузить значениями и упованиями, превосходящими его профессиональную деятельность, и тут ничего не поделаешь. Актер Новиков из «Ленсовета» неспроста говорит, что, вот, как увидишь на Литейном нашего Дрейдена с рюкзачком – и на душе хорошо, значит, все правильно (то есть жив настоящий интеллигентный Петербург, так понимаю). Или такая деталь: прихожу недавно на «Пигмалиона» Шоу в постановке Григория Дитятковского, где Дрейден упоительно шалит в роли мусорщика Альфреда Дулитла – и вижу в зале «настоящую публику», от которой уже отвыкла. Сейчас ведь даже на премьерах в зале много случайных, просто так зашедших людей, конечно, слава богу, милости просим, но ведь грустно, когда театр не притягивает знатоков, прирожденных театралов, образованных людей, квалифицированных зрителей. А тут на каждом шагу раскланиваюсь: актеры, журналисты, издатели, среди них – одноклассница Дрейдена, с букетом. Черт, непрошеная слеза… Дрейден, таким образом, притягивает и объединяет людей, и много ли найдется похожих и подобных артистов, чью работу публика непременно хочет посмотреть?
Дрейден обнаруживается в разных уголках и закоулках культурного просвещения; то и дело с приятным удивлением отмечаю – чей это смущенно-умный, вдохновенно-изумленный голос за кадром моментально втягивает меня в повествование? А, Дрейден. Это когда приходится натыкаться на канале «Культура» на нечто, действительно имеющее отношение к культуре: например, цикл «Красуйся, град Петров!» о петербургских архитекторах и их со-зданиях.
Каждый маленький фильм посвящен одному зданию и множеству связанных с этим фактов истории и людских судеб. Дрейден, по обыкновению ни нотой не фальшивя и ни капли не декламируя, рассказывает обо всем об этом как о ближайшем, родном, только что случившемся, да притом – именно с ним.
Разумеется, всяких аудиокниг наговорено Дрейденом – Великую китайскую стену не сложить, а вот Большую культурную (вокруг, помечтаем, Санкт-Петербурга) вполне, вполне.
А какой он был забавный в цикле детских передач по сценариям Сергея Носова «В музей без поводка». Идея была в том, что с собаками в музеи не пускают, поэтому хозяин сидел и рассказывал своему псу, что же там на картине, к примеру, «Девятый вал» приключается. Каким-то образом участие Дрейдена всегда повышает «фон достоверности» (хотя он и вправду в жизни пламенный «друг собаки») – ну, и это самое, разумеется, работает.
Это самое… без чего актеру никуда при всем уме. Как его? А, обаяние!
Обаяние – аромат личности. (Бывают красивые цветы без запаха и хорошие люди без обаяния.) Обаяние Дрейдена особенное, не одуряющее, не сокрушительное. На любителя. Но он колдун, конечно.
Имею воспоминание… Был вечер в Малом драматическом театре, посвященный памяти Николая Лаврова, – трогательное мерцание безнадежной любви к чудесному артисту. Дрейден вышел рассказывать про Лаврова, они были творчески дружны, играли на пару «Мрамор» Бродского. Казалось бы, штука нехитрая: встань да расскажи что-нибудь о покойном, спрос с подобных появлений невелик. Но Дрейден так не может. Он начал ходить по сцене, вздыхать, что-то иногда восклицая, взмахивая руками, что-то он ворожил себе, обживал – подчинял пространство, как будто ожидая чего-то или приманивая что-то, казался длинным и худым, странным, прозрачным, сверкающим, словно что-то преодолев, появились первые трудные слова… и вот что-то соткалось, создалось из этого полушепота, всплескивания руками, хождения по сцене, рассказ о прекрасном актере, своего рода «театр памяти». И тут Дрейден потрудился, переделал ситуацию под себя, под свою натуру.