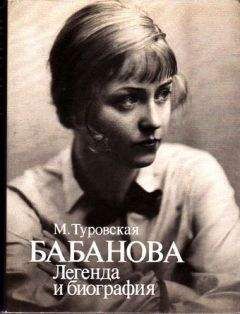Чреватые переменами пятидесятые и вообще обошли ее стороной.
Бабанова оставалась легендой, но время ее как будто удалилось, осталось за перевалом истории. Та же участь со временем постигла и театр Охлопкова с его громоздкой романтикой.
Это заметно издали, но об этом с трудом думает живой, полный сил и таланта человек. Мария Ивановна с ее обостренным чувством истории и трезвостью взгляда, как ни странно, об этом думала. Но как всякий живой, здоровый человек должна была стараться вытеснить это из сознания, чтобы бороться.
Из писем М. И. Бабановой
9.11.56 г. В. Я. Вульфу
«… Пребывание в Баку[254] оставило страшную травму актерского порядка… Поверьте, мне нелегко было быть в положении “бывшего человека”, — и я {315} отчетливо поняла это положение именно в Баку, в силу прежде всего незанятости и занятости в старье, которое уже не “котируется” ни мной, ни другими.
По приезде в Москву некто, кто имеет в виду стереть меня с лица земли как актрису, сделал попытку отодвинуть выпуск спектакля “Вишневый сад” еще на год. После этого я обрела наконец ту твердость, которую придает отчаяние…
И если бы на месте Дудина был Всеволод Эмильевич, я бы смело смотрела вдаль. Но боюсь всего…
Но все же, если есть работа, то жить можно, и это, вероятно, наделило меня неслыханным нахальством дать себя уговорить выступить в роли Тани в 1000‑м спектакле. Об этом не жалею, хотя неделю перед этим не могла ни пить, ни есть — и играла, как в тумане. Этот спектакль несколько залечил рану, нанесенную мне в Баку, и я почувствовала себя живой и существующей и кому-то нужной».
30.XI.56 г. Н. М. Тер-Осипян
«Несмотря на непрекращающиеся аншлаги[255] и сладкие слова, какая-то тоска не перестает меня мучить. “Все жду чего-то” плохого от усталости или привычное ощущение ожидания ударов от судьбы — не знаю. Впереди та же тьма…
Хорошо бодриться, выпив рюмку водки и сидя за столом с друзьями, но когда остаешься одна в тихом и пустом номере и ясно понимаешь всю отчаянность своего положения — тут глаза закрывать не приходится.
Быть изгнанной из театра после всего, что было там оставлено своего, — это конец настолько оскорбительный и страшный, что я не знала — даже я не знала, — что этим кончится моя актерская жизнь.
Но все же надо жить, а не собирать порошки…
Деньги за репетиционный период получила с безумными вычетами. Вместо 3600 получила три тысячи с небольшим… Хочу отложить на шубу.
… Банкет будет завтра. О, ужас. Хотела было выписать тальму с перьями — но… зачем? Буду во вдовьем одеянии, так больше подходит».
23.XII.56 г. Н. М. Тер-Осипян
«Здесь продолжается психоз по сборам и прочему. Хорошо, что у меня трезвая и злая голова, ее не проймешь. Нет, думаю, дураков нет. Сегодня так, а завтра иначе — будь готова ко всему, Мэгги!»
31. I.57 г. В. Я. Вульфу
«Вчера приехала… чтобы сыграть премьеру “Вишневого сада”. Думаю, что Чехова театр не понял, а я только поняла, что не поняла, а сделать не смогла.
… Иногда мне кажется, что я уже ничего не смогу больше сыграть, даже несложную пьеску Барри. Я только теперь поняла, как ее надо было ставить. Но сделать это и технически, и дипломатически невозможно. А играть так, как есть, не хочется…
У Акимова пойдет скоро “Давным-давно”. Что-то скребет на душе, время — это самый страшный наш враг, непобедимый и непреклонный.
“И за борт ее бросает” — ну, все».
{316} 16.11.57 г. Н. М. Тер-Осипян
«Из “хорошего” — была на акимовском спектакле “Деревья умирают стоя”. Это что-то упоительное, пьеса дивная, поставил, как настоящий мастер, оформил потрясающе — и все просто, с тонким вкусом, и обнаружил вдруг человечность, глубину, “чего никогда не делал раньше”.
Юнгер играла семидесятилетнюю старуху, но это “та роль”.
Роль для Ермоловой, примерно, но ей Акимов сделал все, вплоть до пальцев, как когда-то Мейерхольд Зинаиде.
… Ужас как захотелось режиссера! Как он нужен каждому из нас! Режиссера, который через актера проявлял бы свое мастерство…»
После ленинградской эскапады Мария Ивановна никогда уже больше не пробовала уйти из театра, где прошла большая часть ее жизни. Не то чтобы она смирилась — человек не может смириться с тем, что ему не хватает воздуха. Она продолжала искать подходящую роль с обычным своим упорством. Люди — особенно люди немолодые — редко понимают свои ошибки, но Мария Ивановна с ее критическим умом способна была и на самокритику. Когда-то она отказалась от роли Бэрди в «Лисичках» Лилиан Хеллман, предпочтя ей Элизабет в пьесе Моэма «Круг». Но настал день, когда она догадалась, что чего-то не додумала. «Сейчас позвонил Игорь Дмитриев… им пришла в голову пьеса “Лисички”, где я когда-то упустила роль Бэрди, — пишет она Тер-Осипян, — и меня за это грызла Серафима Бирман… Бэрди мне хотелось бы сыграть, и я жалела, что не поняла сразу эту роль… Она раненная жизнью птичка — это было бы мне близко».
Такие ошибки будут еще случаться, но кто не без ошибок, тем более что вкусы меняются труднее всего.
Кое‑что будет ей перепадать из репертуара театра. Будет улыбаться и удача. То перепадет роль суфлера тети Капы в водевиле Д. Угрюмова «Кресло № 16», и снова будут писать, что «весь спектакль освещен замечательным мастерством Марии Ивановны Бабановой»[256] и что «в этом образе водевильная легкость и непринужденность сочетаются с непринужденным лиризмом»[257]. И хотя Мария Ивановна сумеет рассказать кое-что смешное, а кое-что и серьезное о женщине своей эпохи, наделив маленькую тетю Капу мужской повадкой, размашистыми жестами, той чуть-чуть гипертрофированной самостоятельностью, которая дается одиночеством, все же этот вполне «крепкий» успех не был, разумеется, настоящим бабановским успехом.
Заняла на время внимание Марии Ивановны гораздо более интересная работа: ей досталась главная роль в пьесе К. Маримото «Украденная жизнь». Пьеса была чем-то вроде японского варианта горьковской «Вассы Железновой».
Ставила ее в качестве своего дипломного спектакля студентка ГИТИСа, молодая японская актриса и режиссер Иосико Окада, и Мария Ивановна, так сказать, из первых рук получила «секреты» еще одной национальной культуры. Героиня пьесы Кей попадала в богатый дом Цуцуми наивным и перепуганным подростком, а кончала пьесу безумной старухой. Все это сулило актрисе бездну интересных возможностей, но и требовало от нее тончайшего мастерства при переходах из возраста в возраст.
Нужды нет, что кроме подробностей японского быта да обращения со сложной и непривычной одеждой, которую нужно было мгновенно менять между картинами, молодая японская актриса мало чем могла ей помочь. Зато ей помогала {317} вся старая мейерхольдовская тренировка, великая школа, пройденная некогда у Мастера, и вся ее бабановская кошачья цепкость и гибкость, с какой она умела на лету схватить мелодию и ритмы чужого языка, «переодеть» в кимоно и японскую грацию всю свою — все еще безошибочную — пластику, дать мгновенным абрисом характерность возраста. «Миниатюрность» искусства Бабановой была тут как нельзя более кстати, потому что вся роль состояла фактически из мозаики маленьких скетчей, в каждом из которых появлялась другая, новая Кей. Как клейма на житийных иконах, эти наивные и поучительные сценки складывались в горестную историю загубленного таланта и всей жизни Кей.
Б. Львов-Анохин. История человеческой жизни
«… Из зала на сцену ведет помост, носящий в японском театре поэтическое название — “дорога цветов”. По этой “дороге цветов”, задыхаясь, дрожа от ужаса, бежит девушка-подросток, она спотыкается, падает и клубком вкатывается на сцену. На сцене богатый дом. Прежде чем войти в него, девушка, по японскому обычаю, сбрасывает туфли, взбирается по ступенькам и, словно маленький, любопытный дикий зверек, рассматриваем богатую утварь, опасливо прикасается к красивым предметам…
{318} В ее чуть гортанных интонациях, жалобных и испуганных возгласах, подавленных вздохах, в ее торопливой, семенящей походке, заискивающих низких поклонах… целый мир наивной и запуганной юной души.
… Хозяйка дома Цуцуми объявляет Кей, что хочет выдать ее за своего старшего сына Синтаро. А Кей так любит Эйдзи, младшего… Оставшись одна, она вынимает из-за пазухи подаренный им красный гребень, прижимает его к щеке, потом отводит руку с гребнем далеко в сторону, а другой заслоняет глаза, отворачивается, чтобы не видеть, как безвольно, покорно разжимаются пальцы, как бросают на землю самое дорогое на свете…
Во втором акте Кей уже много старше, у нее почти взрослая дочь. Больше она не сгибается в униженных поклонах, она выпрямилась, кажется гораздо выше от пышной прически… В голосе Бабановой появляются стальные, властные ноты. Она избирает верный тон какой-то благородной сухости, почти холодной сдержанности. Пленительную женственную грацию японской женщины соединяет с ощущением стальной воли, мужской трезвости.