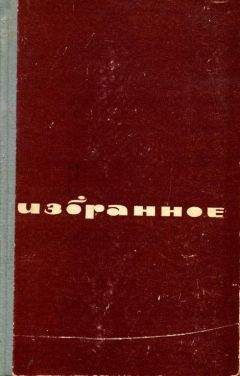Под полом, который снял Петька, был еще один настил, застеленный чистой тряпицей. На ней, поблескивая маслом, лежали почти новенький наган и граната в насеченной рубашке. Рядом белела стопка исписанных листков.
— Закрой! — резко приказал Зимних, бросив взгляд на ворота. — Никто не знает?
— Испугался! Кроме тебя — никто.
Петька быстро поставил верхнее дно на место, и молодые люди вернулись в дом.
— Что за бумажки там? — спросил Зимних, похрустывая морковкой, предложенной Ярушниковым на завтрак.
— Листовки.
— Что?
— Листовки. Сам писал. Вот — глянь.
Он сунул руку за пазуху, достал несколько тетрадных страничек, исписанных крупным нетвердым почерком.
В листовке говорилось:
«Станичники!
Имея понимание, что в настоящий революционный момент, когда вся трудовая Россия вступила в решительную атаку с буржуазной сворой кровожадных шакалов, то вы должны помнить: без хлеба нет никакой войны.
Если фронт уронит винтовку от голода, врагам легче будет надеть ему петлю на шею, а вам — ярмо рабства.
Дайте, казаки, хлеб красноармейцу, рабочему, крестьянину севера и голодным детям города в долг, ибо, когда будет сыт красноармеец, он укрепит власть рабочих и крестьян (казаков), которая есть мечта трудового народа.
Дезертиры, а также те, которые гноят в ямах зерно и гонят самогонку, — есть самые злейшие враги человечества.
Хлеб — Революции!»
— Хорошо написано! — искренне похвалил Гриша. — Просто очень даже здорово! Неужто сам придумал?
— А то кто ж?
— А в голубятню зачем спрятал?
— Вдруг Миробицкий займет Селезян. А у меня уже подготовлено. Наклеивать и подбрасывать им буду.
— Они не поймут, Петя.
— Поймут. Там не все прожженные, есть и такие, что с толку сбились.
Зимних подымил козьей ножкой, покосился на Ярушникова:
— Откуда оружие?
— Не твоя забота.
— А все же?
— На задах, в скирде выкопал.
— Ты что ж — видел, как прятали?
— Ну да.
— Кто?
— Казачок тут у нас один есть, сивый, как дым. Он и прятал.
— Офицер?
— Может, и офицер, черт их разберет. Днями домой явился. Откуда — не знаю.
— А ты-то теперь зачем прячешь?
Петька ухмыльнулся:
— Никакая власть не велит держать оружие. Чрезвычайка увидит — тоже отнимет.
— Пожалуй, так, — покачал головой Гриша. — Ладно, пусть лежит в голубятне.
Покончив с пустоватым завтраком, приятели вышли во двор.
— Ты сейчас куда? — спросил Петька.
— В Еткульскую пройду, погляжу, что там и как. Туда ведь через Шеломенцеву идти?
Ярушников кинул взгляд на приятеля, сказал хмуро:
— Не ходи. Я тебе маленько хлеба оставлю и моркови. А сам побегу.
— Куда?
— К Шеломенцевой заимке. Взгляну. Ежели Миробицкий там — сигнал пошлю.
— Какой сигнал?
— Голубей возьму. Красных. Они живо примчат.
— Мне некогда, Петя.
— Я же говорю — живо. Коли лапки у птиц пустые — значит свободно. Смело иди. Синие тряпочки привязаны — банда в Шеломенцевой. Ты тогда не трогайся. Сиди тут, меня жди.
— А не заплутаются голуби?
— Ха! Здесь двенадцать верст прямиком. Чего им колесить?
Он потер себе лоб, сказал, соображая вслух:
— Три часа ходу. Маленько поглядеть там — полчаса. Лёту птицам пятнадцать минут. Выходит, четыре часа. Потерпи.
Зимних спросил:
— Не схватят тебя казаки, Петр?
— Чего хватать? Они знают, кто я такой. И птиц не раз бросал из всех мест.
Было часов восемь утра, когда Петя Ярушников, пожав руку приятелю и взяв с собой красных голубей, вышел со двора.
«Кремень-парень, — благодарно подумал Зимних о Пете, шагая по горнице взад-вперед. — Ему в комсомол бы. В самый раз».
Солнце уже прямо стояло над головой, когда на юго-западе от станицы появились голуби. Вот они стали кружиться над домом, постепенно утрачивая высоту. Есть у них тряпочки на ножках или нет — Гриша не заметил.
Вскоре голуби слетели вниз. Гриша подошел ближе к птицам, пригляделся, и сердце у него стукнуло с перебоем: на лапках синели обрывки тряпочек: Петька подавал сигнал — Миробицкий на заимке, идти нельзя.
Через несколько минут Гриша выбрался из станицы и зашагал к Шеломенцевой. Чтобы не встретиться с Петей Ярушниковым, двинулся не по дороге, а прямиком.
Зимних хорошо знал этот район и не боялся заблудиться. Заимка затерялась в густом лесу, на берегу довольно большого, круглого, как яйцо, озера. Это было одно из трех озер, вытянутых с севера на юг, западнее Шеломенцевой. Грише не надо было проходить мимо озер. Но он решил обогнуть ближнее: посмотреть — нет ли в прибрежных камышах постов и засад?
Узкий проход между озерами густо порос камышом. В старое время здесь, видно, была славная охота на уток. Ах, хорошо бы сейчас подстрелить пару другую чирков, снять дублетом крякву! Славная похлебка вышла бы!
Размечтавшись, Зимних не заметил, как задрожали слева от него, у берега, метелки растений и на дорогу вышел человек.
Он бирюковато смотрел на незнакомого из-под густых, совсем побитых сединой бровей, держал на весу обрез. Одет был в затрепанную казачью форму, без погон.
— Документы, — распорядился человек. — Швидко!
— А ты чего на меня орешь? — спокойно поинтересовался Гришка. — Ты кто таков?
— Документы! — повторил старик и положил палец на спусковой крючок обреза.
— Ты меня не пугай, дядя. А то, гляди, ненароком сам испугаешься!
— Но-но! — прикрикнул неизвестный. — Не ляпай языком!
Гришка покосился на сутулого, с огромными ручищами казака, мельком заглянул в его волнистые, хмурые глаза, решил про себя: «Этот, в случае чего, выпалит и не перекрестится». Сказал:
— Одет ты больно неказисто, дядя. Сапоги оскаленные. Из комиссаров, что ли?
— Це вже мий хлопит. Документы!
— Ты мне сначала давай свои, образина! — вскипел Гришка. — Много вас тут, голяков, шатается!
— Добре... — сощурился старик. — Геть до штабу! Там буде тоби за це!
Он приподнял обрез, крикнул:
— Айда! Побижиш — куля догоныть.
— От дурака бегать — ног жалко.
— Дуже гаряч, хлопець, — усмехнулся конвоир, шагая за Гришкой к заимке. — Можна легко свинцом подавытыся.
Заимка казака Прохора Зотыча Шеломенцева представляла собой крепкий рубленый дом, огороженный сплошным забором.
«Скажи на милость, — подумал Зимних, увидев издалека это вечное сооружение. — Не изба — крепость».
От дома в лес шла натоптанная тропинка. В чаще, надо думать, таились землянки «голубой армии» Миробицкого.