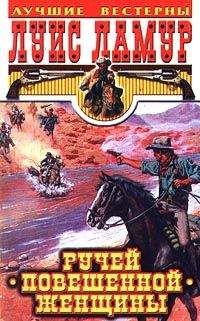— Явилась, бродяга несусветная! Мучительница окаянная! — ругается мама, вставая с постели. И бранится в сенях, когда открывает запорку, и с крыльца грозится побить корову. Однако возле ворот мама умолкает, а запустив бродягу во двор, говорит совсем другие слова:
— Манюшка наша пришла, кормилица наша родимая! Иди, иди, милая, в стайку!
Мы знаем, что во дворе мама гладит однорогую голову бесшабашной Маньки, треплет ее бока и ласкает вымя. И у нас троих — сестры Нюрки, брата Кольши и меня — нет ни капельки злости на свою кормилицу, на свою доену, на свою же лошадь.
…Мымыкнула и умчалась электричка. И много их за ночь подает «голос» перед станцией, но никогда больше не услышу я нашей Маньки…
Уснула земля, спит и ровно дышит уставшей грудью, словно мать многодетной семьи. И где-то бродят по отаве на лугах кони. Они не носятся и не бьют копытами землю — тоже не хотят потревожить ее сон. И болотные совы неслышно летают, ныряя в туман к земле за мышами.
Тепло земли идет через стог сена и по-матерински согревает нас с сыном. И мне не о чем тревожиться, коли так покойно на земле, и она не вздрогнет до рассвета своим чутким телом.
К незримой июньской полночи убаюкал меня сосед-коростель, и не встать бы мне на встречу солнца со стороны города, если б… не отец. Он приснился живым, склонился к моему изголовью в стареньком, досветла отстиранном мамиными руками хлопчатобумажном костюме, и, оберуч опершись на березовую тростку, с детски-виноватой улыбкой шепнул:
— Ну чо, Вася, шибко много птицы-то ноне?
Мурашливый озноб и боль у сердца подняли меня, и я не успел ответить отцу. Над нашей с сыном постелью под таловым кустом нагревалось и высоко наливалось синью летнее небо, бестолково толклись рыжие комары и… больше ничего. Не было рядом и сына: он еще с вечера собирался рисовать рассвет и не проспал — осторожно вылез из разостланной палатки.
«Шибко много птицы-то ноне?» — все еще слышался мне отцовский голос, хотя сна как не бывало, сквозь тальники плавилось желто-слепящее солнце, и только близкий коростель по-прежнему старательно покряхтывал: «спи-спи, спи-спи». Ему отзывался с правобережья второй, с разных сторон выкликали «встать пора, встать пора» перепелки, а на дальнем озерке протяжно стонали и верещали чайки.
Минуя нежную траву синюху, спустился я к парной воде и тут же засмотрелся на петушка серой славки. Вот взмыл он свечкой над старицей и токует-похлапывает крылышком о крылышко, а петушок чечевицы с таловой сушинки озоровато подбадривает:
— Чо ты, выше! Чо ты, выше!
— Чево еще, чево еще? — переспрашивают по ивнякам чечевицы-курочки, а славка опускается на свою талинку и, не передохнув, звучно-торопливо выпевает:
— Захочу и полечу, захочу и полечу!
Садовая камышовка выбралась на боковую ветку черемухи и восхитительно поет-приговаривает:
— А как хорошо у нас! А как, как хорошо у нас!
Вдруг семья скворцов гулко сыплется в кусты, и мгновенно над ними показался строго парящий сокол. Петушка чечевицы сдунуло с сушинки, поперхнулась серая славка и смутилась садовая камышовка. Лишь петушок камышовой овсянки успокаивал свою подругу на гнезде:
— По-тер-пи, по-тер-пи…
В реке тоже не все одни рыбьи пляски: вода неожиданно выбрызнула блестки мальков и туда, где они резвились, с «рыком» плюхнулся бугроспинный окунь. У самой поверхности возле розоватых лопушков водокраса выглядел я хищно-пятнистую щурогайку — щучку-трехлетку. Покуда неподвижна ее утиная мордочка, и что там в воздухе да на середине реки — ее не касается, но на голодное брюхо она не потерпит невинную шалость рыбьей мелочи. Зеленой молнией пронзит водную толщу и метлой смахнет живые соринки.
Тревожную перемолчку нарушили те же скворцы — сфуркнули они из кустов кормиться на поскотину, куда из села Ковриги проводили хозяева мычливое коровье стадо. И тотчас снова закраснел грудкой на сушинке петушок чечевицы, затоковал петушок славки и садовая камышовка опять завела доверчивую песенку с припевом «как, как хорошо у нас; как, как хорошо у нас». Петушок камышовой овсянки что-то склюнул с листика и «сосчитал» соседей:
— Нас, нас три-три, нас, нас три-три…
— Как так, как так? — забеспокоились чечевицы-курочки, однако для них и меня радостно высвистнула на лету иволга:
— Шибко много, шибко много!
— Слышь, батя? Шибко много птицы нынче! — шепчу я ответно отцу, словно он не на том запредельном свете, а сидит подле окна комнаты-боковушки. Шепчу и невольно загибаю пальцы. И чтоб не пропустил я кого-то, заперекликались по лугам перепелки и коростели, желтенькие трясогузки и черноголовые чеканы, даже сивый луговой лунь молча выказал себя и скользнул в загустевший пырей.
На тополях у бывшей водяной мельницы с хохотом и уханьем расшумелись кукушки, а у нашего ночлега по черемушникам затеяли суды-пересуды любопытные сороки. И утки вон запокрякивали, а где-то на не видимом глазу озерце по-стариковски откликнулись отрывистым «кашлем» буроголовики; с раздолья реки Исети принес ветерок беззаботную болтовню куличков:
— Толя, Толя, Толя…
— Ну где же нас трое? Троицей-то и не пахнет! — обращаюсь я к петушку, и он признается:
— Сбились, сбились, сбились…
— И добро, что ты со счету сбился, и хорошо, что нас шибко много! — жмурюсь на солнце и закидываю удочку к солнечной маковке кубышки. — Пусть нас будет много на русской земле! Вон не ударил же по скворцам сокол и промахнулся окунь, не бросилась на мальков-шалунов щучка, и я не огорчусь, ежели сорвется с крючка рыбина.
Пусть будет нас еще больше — и сегодня июньским утром, и завтра, и всегда.
И вовсе ничего приятного не сулило нам моросливо-туманное майское утро: ни у речки Ольховочки, ни в лесах и на луговинах. Однако птицы не молчали, а на все голоса выманывали из морока и солнце, и теплую синь безбрежного неба. Потому и не сменяли мы с сыном Ольховочку на недальнюю реку Исеть, где куда интереснее пытать рыбацкую удачу.
Сели на извороте у круглого омута и стали слушать, как тренькает пеночка, по-ребячьи тараторят-«посмеиваются» синицы-лазоревки, а где-то на разливах озера Прозорово даже загоготал пролетный табун диких гусей. Временами поигрывает всплесками плотва, но ни единой поклевки.
— Хоть бы соловей, что ли, спел, — вздохнул сын. Я не успел ему ответить, как черемуховый куст на правобережье «вздрогнул» соловьиным свистом.
— Споем, споем, споем! — звучно и сочно вывел соловей, второй из черемухового колка за пашней обрадованно согласился: