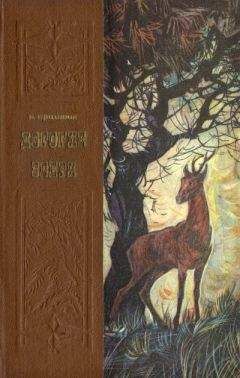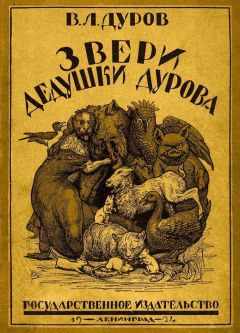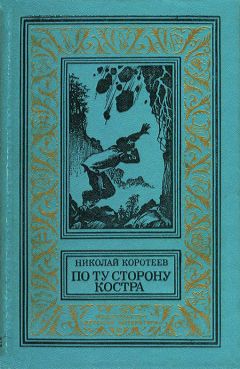Тут опять приходит мне в голову вечно повторяющийся чуть ли не с колыбели вопрос: надо ли ко всему привыкать так, чтобы делать успешно свое дело и ничего при этом не чувствовать. И как быть, если без чувства и воображения обратишься в машину, а при наличии их деловая машина плохо работает. В этом вопросе есть бесконечное углубление, так что в конце концов какая же подлинная действительность: то ли, что вижу я, путешествуя, своим первым свежим глазом, или верно то, что узнали они, повторяя много лет одну и ту же операцию? Мне было так, что я каким-то образом при операции с первым оленем до того судьбу его близко принял к себе, что, когда открыли колпак и я увидел этот ужас в глазах и потом, как врезалась пилка и высоко вверх брызнула кровь, и олень вывалил серый язык, и захрипел, и закричал, и застонал, я не только не мог сфотографировать, но сам едва на ногах устоял и на минутку должен был отвернуться, чтобы скрыть свое волнение от товарищей. Судьбу второго оленя я уже не перевел на себя и снял хорошо, а потом даже управлял спиливанием, просил делать так или так, отмечая точно в памяти поведение каждого оленя при спилке пантов. Один олень стонет, другой просто тяжело дышит, третий задыхается, как отравленный стрихнином, у иного оленя все горе в глазах, и даже самую спилку он переносит без малейшего стона. Тот олень Серый Глаз, который совершенно спокойно вышел из денника и без колебания вправился в панторезный станок, поняв положение, отдался без всякой борьбы, и когда его персикового цвета налитые кровью панты тронула пилка, и кровь брызнула фонтаном, и я в этот момент спустил шторку лейки, то он покосился на мой крошечный аппарат, и до того это было странно, что даже привычный ко всему оператор обратил на это внимание, и мы потом вместе с удивлением вспоминали, как покосился могучий Серый Глаз на такую безделицу.
Для спилки пантов нужно сделать всего три-четыре движения пилкой, потом панты кладутся на блюдо, а на коронки оленя марля с карболкой. Теперь расстегивают ремень, стягивающий голову комолого пантача, оператор нажимает на рычаг, опускающий подпорные доски, и олень проваливается, достает дно ямы панторезного станка и потом вылетает оттуда, как будто им стрельнули. После того как мы стрельнули восьмым, последним оленем, первые олени, комолые, с окровавленными шишками, как ни в чем не бывало вместе с другими пантачами уплетали себе кукурузу. После закуски им предстояло величайшее наслаждение: ведь они с прошлого года только из-за пантов были в заключении и теперь, вот пожалуйте, вот открывается калитка в парк. Они прыгали один за другим из дворика совершенно такими же огромными скачками, как из панторезного станка. К сожалению, они же не могли знать, что открыто новое угодье для их пользования, и потому все бежали в старый выбитый парк…
К вечеру мы обходили парк, типичное угодье пятнистых оленей, отроги хребтов, покрытые горными и низкими болотными лугами, на которых весной раньше всего зеленеет трава, сопки с сиверами и солнцепеками. Пищу оленей в таких угодьях составляют травы лесных полян, преимущественно широколиственные, горькие и ароматичные растения, также бобовые (вика), листики, почки и ветки деревьев, кустарники липы, клена, дуба, сочные верхушки чертова дерева, побеги бархата, леспедеца, и особенно любит олень объедать листья винограда. После обильного разнотравья Нового парка мы пришли на границу Старого; и трудно себе представить после богатого разнотравья печальнее пустыню, чем был выбитый дочерна Старый парк; до того он был выбит, что, услыхав довольно далеко от себя писк бурундука, мы скоро разглядели полосатого зверька вроде белки, но мало того, этим писком, заслышав наши шаги, бурундучиха сзывала своих детенышей. И вот до чего же парк был выбит, что мы видим на земле бегущих малюсеньких и тоже полосатых бурундучат.
Выйдя на опушку леса, мы рассмотрели в бинокль, что из Старого парка в Новый медленно перебирались две оленухи с оленятами, за ними же шел один из тех пантачей, которых сегодня оперировали, и за пантачом еще одна оленуха с олененком. Все это шествие можно было так объяснить, что оленухи пошли в Старый парк на солончаковые травы и встретили там окровавленных пантачей. Когда они достаточно нализались соли и собрались уходить на богатое разнотравье Нового парка, то пантачи, голодные, пошли тоже за ними. Конечно, и оленухи не просто шли, их переход по открытому месту — целое представление: идут тихо, как на пружинках, оленята пугаются малейшего шороха, и все их причуды матерям приходится проверять. Но еще более робко, чем маленькие, более неуверенно шли открытым местом в Новый парк комолые пантачи; быть может, их пугало новое неизвестное место, а быть может, они просто боялись, как бы им опять не попасть в такое же ужасное положение, как было с утра. Переход в полкилометра потребовал с полчаса времени, а там показался еще новый отряд оленух, ведущих другого пантача. Этот пантач, или вернее шишкач, перед кустом уперся, как будто ожидая оттуда зверя. Но вышел не хищник, а оленуха, она шла навстречу процессии по какому-то своему делу. Получше разглядев ее в бинокль, мы поняли: она очень хорошо наелась и, сытая, с полным выменем, возвращалась к своему новорожденному, оставленному на время в кустах.
Однажды во время моего пребывания на полуострове Гамове замечательный стрелок, старик, егерь Гамовского оленьего парка Иван Иванович Долгаль убил леопарда, почему-то называемого на Дальнем Востоке барсом. Я выпросил себе на память коготь этого зверя и не заметил, с какой ноги был взят этот коготь. Во Владивостоке мне случилось быть у одного знаменитого охотника на львов в Центральной Африке, превосходного рассказчика. Увидев мой коготь, он, ни мгновения не раздумывая, сказал: «С левой задней ноги». С этого раза коготь леопарда получил у меня сакраментальное назначение в деле испытания человеческого характера. Я показываю коготь, спрашиваю и безошибочно узнаю об охотнике. Раз я показал коготь заведующему парком пятнистых оленей в совхозе Песчаное А. А. В-у, который много убивал барсов и одного даже задушил своими руками. Случай этот подробно описан в «Охотнике» (1925) под заглавием «Дальневосточный Мцыри». Сам я этот рассказ не записал и по памяти могу передать лишь в общих чертах. В. охотился на барсов с двумя своими собаками, немецкими овчарками Петро и Неро, которые, загнав барса на дерево, совершенно как лайки кружились около и лаяли до тех пор, пока не приходил охотник. Однажды В. расстрелял все свои патроны по козам, после чего Неро (Петро накануне был ранен барсом и остался дома) облаял барса. Конечно, бросаться с дерева на громадную собаку барсу нет расчета, и он бы и не бросился. Это звено рассказа я не удержал в памяти. Только вышло так, что уже в сумерках барс скакнул на Неро, и тот сразу попал в отчаянное положение. Хорошо помню замешательство очень скромного, застенчивого В. в этом месте рассказа. Мы пристали к нему объяснить нам подробней мотивы, по которым он с пустым ружьем решил вступиться за Неро. «Я думал, — ответил В., — что он не посмеет и убежит, — это раз, а второе, потом, если он задерет Неро и вернешься домой, неловко будет перед собакой». — «Какой собакой?» — спросили мы. «А Петро, ведь он дома остался, он будет смотреть на меня…» Мы были все охотники, и последний аргумент нас всех убедил и высоко поднял в нас авторитет Александра Александровича. Он взмахнул пустой винтовкой с ругательством над головой барса, а тот бросил Неро и сразу подгреб под себя Александра Александровича. Ножом нельзя было ничего сделать, нож без размаха не входил в барса, пришлось душить руками из-под низу, а сверху сидел и тоже душил барса Неро. Мало-помалу барс как будто начал ослабевать и можно было решиться освободить одну руку и ткнуть в горло ножом. Так вот и одолели, но, конечно, долго пришлось лечиться от ран. Вот какой охотник и сколько барсов он побил со своими друзьями Петро и Неро, а когда я показал ему коготь и спросил, с какой ноги, он прямо сказал, что коготь барса ему хорошо знаком, но с какой ноги — определить он не может. И узнав, что коготь с гамовского барса, рассказал нам об одном ручном барсе Самсоне, который был тоже добыт на Гамове, и в честь этого барса одна известная падь Туманной горы названа Барсовой. Тогда оленьим парком владели на паях четыре лица, среди которых был Иван Янковский. Однажды повадился барс резать оленей, и чего только не предпринимали егеря, не могли проследить и убить этого барса. Конечно, барс не волк, который заберется в парк и положит десяток оленей, барс убивает лишь себе на еду, лишнего не берет, и в конце концов, имея лишь одну семью барсов на Туманной горе, владельцы парка стали смотреть на проделки барса легко. Случилось, об этом узнал швейцарец Конрад, тоже оленевод и хороший охотник. Он сказал, что это нельзя допустить: жить леопарду вместе с пятнистыми оленями в одном парке. Он поселился на Гамове, изучил в сущности очень ленивую и однообразную жизнь барса. Поставил четыре грелевских капкана в одной точке хребта, где барс непременно проходит, высматривая себе сверху добычу; к одному капкану была прилажена фазанья голова, и вот из-за одной этой фазаньей головки погиб прекраснейший зверь: захваченный одним капканом, он бился до тех пор, пока его не охватили все четыре капкана. Почти в этот самый день Иван Янковский в нынешней Барсовой пади заметил какое-то желтое пятнышко и наудачу стрельнул в него: убитым оказался маленький барсенок, а другой был взят живьем. Иван Янковский вырастил этого барсенка и потом никогда не расставался со своим Самсоном. Бывало, в горы пойдут, и начинается игра: леопард прыгнет в камни и заляжет там, по своей барсьей манере, так, что видны бывают одни только глаза, и потом прыгает оттуда. А то Янковский ляжет, а Самсон начинает лизать его волосы и причесывать и до того долижется, что уж и больно станет: язык-то ведь жесткий…