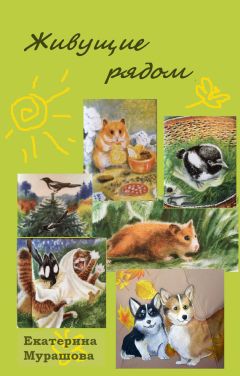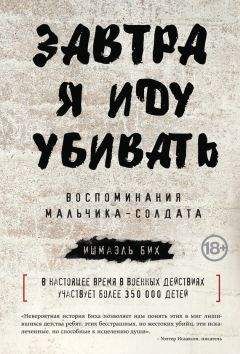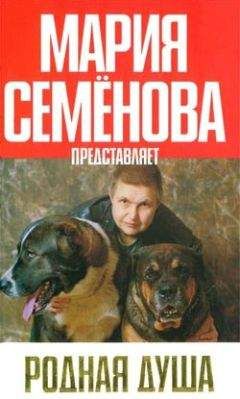Ознакомительная версия.
— Ну, тогда не знаю… — развел руками муж. — Разве что что-то неизвестное науке…
— Черные и длинные — это белой мышки детки, — невозмутимо произнесли из-под стола уста младенца, в лице нашей двухгодовалой дочери. — Они раньше были маленькие, а теперь выросли. Я их давно знаю.
— А почему же нам не сказала?!
— А вы спрашивали? — нешуточно удивилась дочь.
Мы с мужем посмотрели друг на друга и промолчали.
Теперь все, в общем-то, прояснилось. Белая мышь убегала из всех и всяческих клеток, ведомая одним из самых могучих инстинктов — инстинктом материнства. Где-то под шкафом или плитой ее ждали беспомощные, головастые существа, с короткими ушками и маленькими лапками, с трогательно коротким, поджатым к животу хвостиком. Без мамы им было голодно и холодно. Без мамы они могли умереть. И белая мышь раз за разом преодолевала все преграды, которые мы возводили на ее пути, и с перерубленным хвостом, исколотыми лапами и изодранным в клочья носом все-таки прорывалась к детям. Судя по результату, она ни разу не опоздала.
Внешний вид выросшего потомства тоже был понятен. Есть в природе такое явление, которое на научном языке называется эффект гетерозиса. Он заключается в том, что потомство далеко разошедшихся друг от друга ветвей одного вида в первом (и только в первом!) поколении отличается крупными размерами и повышенной жизнеспособностью. Мыши-мутанты и беспородная мышь-дворняжка как раз и были этими ветвями.
Черных мышей-детей мы видели редко и недолго. Они были ужасны. По размеру больше любой когда-либо виденной мною мыши, они легко ходили по бельевым веревкам, никогда не попадались в живоловку и легко запрыгивали с пола прямо в раковину. Трогать их и даже смотреть на них не хотелось, хотя их текучие движения невольно притягивали взгляд. Окончательно став взрослыми, они в один прекрасный день просто ушли из нашей квартиры, и больше мы их никогда не видели.
После истории с мышатами я оставила свои попытки адаптировать белую мышь к жизни в клетке.
— Пусть живет как хочет! — сказала я мужу.
— Счастливая! — вздохнул муж.
А я вдруг поняла, что моя белая мышь действительно — счастливая. Странно думать так про бесхвостую, покрытую шрамами мышь, предназначенную на корм какой-нибудь гадюке, но… я так думала.
Каждый вечер я оставляла под раковиной блюдечко с едой, и постепенно белая мышь перестала прогрызать пакеты с крупой и растаскивать по всей кухне горох и фасоль. Ее основной дом, судя по всему, был где-то за холодильником, но как у настоящего конспиратора, у нее всегда оставалось две-три запасных норы, в которых также были собраны запасы на черный день.
Разноцветные мыши-мутанты проживали свою короткую неяркую жизнь и постепенно вымирали. В конце концов, деревянный ящик опустел. Белая (точнее, уже желтая) мышь по-прежнему чем-то хрустела за холодильником. Прошло больше года и вот однажды я, случайно заглянув в стоявший возле шкафа ящик, вдруг увидела в нем белую мышь. Она смотрела на меня и шевелила серым, покрытым коростой носом, который когда-то был нежным и розовым.
— Смотри! Она вернулась! — закричала я.
Муж поправил очки и внимательно оглядел сидевшего в ящике зверька.
— Она больна, — сказал он. — Больше не может жить на свободе. Пришла в неволю умирать.
Я взяла мышь в руки (она не сопротивлялась) и осмотрела ее. Муж был прав. С правой стороны около задней лапы выделялась отчетливая опухоль. Я нажала на нее. Мышь никак не отреагировала. Не воспаление. Значит — рак, лабораторные мыши чаще всего погибают именно от него. Мышь не шевелилась, спокойно сидела на ладони и смотрела на меня темно-вишневыми глазами.
— Ну что ж, — вздохнула я. — Будешь теперь жить на пенсии.
На пенсии белая мышь прожила еще почти полгода (полтора-два года — нормальный срок жизни мышей). В последние недели она практически не могла ходить, но аппетит сохраняла почти до самого конца. Особенно она любила огурцы и сыр.
В последующие годы я часто вспоминала ее. В чем-то она была для меня примером. Вы скажете: как мышь может быть примером для человека? Не знаю, не знаю, но что-то такое было в ее упрямой и спокойной жизнестойкости, не покидавшей ее до самых последних дней длинной и наполненной событиями мышиной жизни…
История эта абсолютно реальна и произошла где-то в конце семидесятых, начале восьмидесятых годов.
Друг нашей семьи — геолог, альпинист, могучий, совершенно не сентиментальный мужик лет сорока от роду находился в составе геологической партии где-то в районе устья реки Пясина, недалеко (по северным, конечно, масштабам) от порта Диксон. Какие-то, с трудом припоминаемые обстоятельства сложились так, что ему довелось спасти жизнь одному из местных жителей — эвенку-аборигену, отцу многочисленного семейства. От всех возможных благодарностей геолог грубовато отмахивался, но спустя два дня после инцидента упорный эвенк, побуждаемый какими-то своими, родовыми представлениями о долге и чести, явился в лагерь и привел с собой приземистую, широкогрудую лайку.
— Ты возвратил мне жизнь, — заявил эвенк. — Это вожак моей лучшей упряжки — самое ценное, что у меня есть. Умный, как человек. Я дарю его тебе.
— Господи, да зачем мне собака! — вскинулся было геолог. — Я же никогда собак не держал! Да и в отъезде все время!
— Нельзя, нельзя! — зашипели рабочие из местных. — Нельзя отказываться. Большой обида будет. Прямо как смерть — такой большой!
Сломленный угрозами геолог махнул рукой. Эвенк с достоинством удалился. Угрюмая лайка осталась в лагере. Рабочие советовали продать пса («Хороший вожак больших денег стоит!»). Но несмотря на то, что этот выход явно был бы наилучшим (и, видимо, вполне допустимым по местным понятиям), геолог на это не решился — в рамках западного менталитета продавать подарок казалось абсолютно немыслимым. Поэтому по окончании полевого сезона лайка по кличке Вожак (эвенк не удосужился сообщить, как зовут собаку, и потому кличку придумали сами геологи) приехала в Ленинград.
Семья геолога состояла из жены, дочери-подростка, маленького сына и престарелой тещи. Красивая, необычная собака сразу всем понравилась. Однако вступить с ней в контакт оказалось весьма непросто. Вожак демонстративно игнорировал всех членов семьи, кроме самого геолога. Даже жена, которая каждый день кормила собаку, чувствовала, что Вожак всего лишь терпит ее ласки. Если дети пытались прикоснуться к нему, он сдержанно рычал или прятался на лоджии. Лоджия вообще стала основным местом его обитания. В конце концов туда вынесли коврик и миску. Всю зиму семья прожила в температурных условиях, близких к блокадным. Если дверь на лоджию пытались закрыть, то Вожак начинал выть и царапать дверь. Выл он страшно, по-волчьи, и если оказывался запертым на лоджии, то уже минуты через три в дверь звонили испуганные соседи. В комнате же ему было жарко, так как всю свою предыдущую жизнь Вожак прожил на улице, приспособившись к суровой полярной зиме.
Ознакомительная версия.