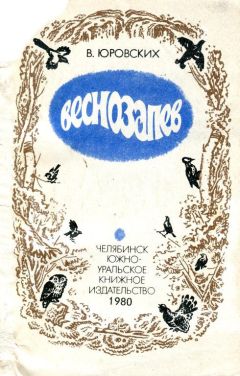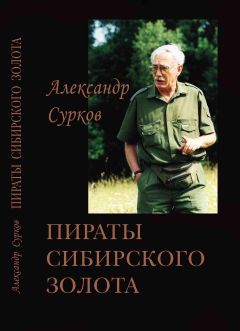— Здесь, здесь, здесь я…
Да разве пролетит овсянка мимо Веселуги?! Заметит она петушка, и станут они с ним под кустом свивать гнездо. Принесут и стебельки трав, и пустые колоски, и листья. Внутри аккуратно выстелют конским волосом, камышовым да ивовым пухом. Начнут они домить и в тепле да в суше появятся пепельно-серые, с черно-бурыми крапинками яички. Прижмется к ним овсянка, а петушок потрепещет над кустами и выберет вершинку талины для песни. Усядется на нее и еще веселее залепечет:
— Здесь, здесь мы живем…
— Здесь, здесь мы живем…
Ну, и дай вам бог счастья…
А пока некуда нам с петушком торопиться, всему свое время. Оба мы — два крестьянских сына — сидим у Веселуги, глядим на мутно-холодную воду и сизо-зеленые ноздреватые льдины. Вдвоем нам и уютно, и весело.
Было начало ручьетека, и в Согринку с увалов вприскок бежали самые разновеликие и разноликие ручьи. И каждый звенел и пел по-своему.
Под ручьи да перезвон теньковки услыхал я запев солнечноголосого зяблика. Как залетел сюда в осинники по склону — не пойму. Почему-то избегают они осину. Видно, не вызванивается — не переливается песня в горькоствольных деревьях. Но то ли он самый ранний, а за ветрами здесь вызрел молодой сугрев, тут и завел зяблик свою первую песню.
Однако зачнет — всполошатся-взметнутся с боярки воробьи. Зашумят, закричат наперебой. Вроде бы не любо им, друг дружку и овсянку спрашивают: «Чем! Чем мы хуже?» А зяблик — голуба голова, красно-каштановая одежда со снежными полосками на крылышках — может, и пел-то для них.
Смущенный зяблик время от времени умолкал, словно ждал понимания серых зимовников. Зато овсянка с вызолоченной грудкой и головкой, будто овсяной мякинкой потрусили на нее, отлетела на другой край Согринки и с оттаявшей красноталины затянула песенку-светлинку. И до того тонко-тонко — тревожно мне стало: вдруг не хватит у нее голоса?..
Неожиданно воробьи замолчали. Зяблик уже не пел: стушевался или за овсянкой последовал. Но во всех ручьях звенела песня. И под пасмурным небом, под дождиком-бусенцом они несли в поля веснозапев зяблика.
Как только становится весна хозяйкой, потянет меня на мысок между межевыми болотами. Приветных мест и ближе на подгляде полно, но туда, к осине покалеченной, по любой водополице ухожу…
Наткнулся я на нее случайно. Косили траву с отцом по берегу и набежали на грибы-диковины. Замшевые шляпки у них зеленые, как осиновая кора, а крепкие золотистые ножки красными ниточками перевиты. Оба не знали, как их назвать, и росли они только вокруг осины. Чуть отступи к березам — кроме сухих груздей да слизунов ничего не видать.
Наломали грибов и осину приметили. Гроза ли ударила или еще кто — вполвершины сломана она, голые защепы острием торчат.
Прилегли отдохнуть под березой, и слышу я, будто струна балалаечная задребезжала. Стихнет звук, и опять кто-то щипнет струну. Как есть балалайку настраивает…
Вот настроил он ее и негромко, а так складно игранул — мы с отцом разом приподнялись. «Поблазнило?» — спрашивает он меня взглядом, а я плечами пожал. Будь деревня близко и то бы не поверили. Балалайку теперь если и услышишь, то не иначе в большом городе.
Ничего дельного не придумали и не нашли того балалаечника. Отец задумчивым до вечера был и перед сном убитого на войне брата Андрея вспомнил:
— Давеча и не соснул, а показалось — Ондрюшка балалайку налаживал. Бывало, меньшой Ваньша холостовать уйдет, а Ондрюха в заулке на балалайке поигрывает. Мастерил он их — лучше магазинных голосом. Девок только Ондрюха пошто-то боялся…
Дубовиками грибы звать — дома по книжке угадали. А звук остался бы загадкой, не приди мы сюда весной и не заночуй на мыске. С той поры и зачастил я к осине. Отец на ноги ослаб, а из приятелей кто в такую грязь потащится сюда.
Доберусь до мыска, засветло балаган подправлю и сушняком запасусь. А затемнеет — сварю кашу с дымком и под теканье бекасов хлебать начну. В неразгляди подлетит к огнищу смешной куличок и долго-долго пытает меня: «Ты кто? Ты кто?..»
Все тише и тише урлычут лягушки, реже блеют уставшие бекасы, где-то на болоте переступил онемевшими ходулями журавль, курлыкнул и все затихло…
Потянуло сквозняком, словно забыл закрыть лаз балагана, а тут кто-то дверь отпахнул, сдунул пушинки пепла, и запереглядывались угольки на огнище. Явственно стали выступать березы и за ними застекленели водоразливы. А на востоке ожил костер и пламя слизнуло по горизонту остаток ночи…
Вот тогда неслышно появился он на осине, чутко и осторожно стал прослушивать свой инструмент. Скоро, скоро, еще секунды — и раскатится по небывалому залу аккорд утротворца. И тут на узкой загривине за болотом недотепа-тетерев зацедил сквозь клюв: «Чу-у-шь…» Со всех сторон на него досадливо зашикали: «Ты-ти-ше».
Он на осине затаился, и в еле уловимый скоротечный миг слышно было, как сердце мое торкнулось навстречу ему и свежему утру. И тогда поднялся звук струны на самой высокой ноте, и не то вздрогнули, не то разом зазвенели деревья. Не трель, не барабанная дробь, а именно звон струны раскатился по округе. И заиграли в солнечные трубы журавли, и разручьились косачиные подыгрыши, и отозвались голосами и крылышками бекасы.
Тогда на осине видел я и не верил своим глазам: маленький дятел часто-часто, до алости на голове, ударял клювом по сухой защепине. И осина рождала чистый звук.
Никто не видел и не знал, сколько дней, а может, и лет потратил дятел, пока отыскал покалеченную осину. Никто не знал и не слышал, как настроил он ее, вызвал к жизни сильный и стройный звук.
…Начинался день, и обессиленный дятел незаметно улетел с осины. Я покидал мысок и легко шел и шел лесами.
Побулькивает ручеек в ложбинке, словно кто-то прополаскивает горлышко. Слушаю его, и кажется: пройдет самая малость, и он запоет. И солнце оперлись подбородком на облако — ждет. И зайчишка под таловым кустом уши навострил — тоже ждет: запоет ли? И я жду…
Ждал, ждал и задремал. Тогда и запел надо мной жаворонок. Кажется, переместился ручеек высоко в небо, чисто-чисто заструился и вернулся на землю песней… А земля слушала, нежилась и дышала. По-над пашнями стояло сине-сине, и березовые колки плыли горделивыми белыми лебедями…
Много ли надо для радости? Припал жаворонок к воде, освежил горлышко и запел. И все окрест высветилось. Потому, видно, и деревья, и цветы, и зверушки — к земле припадают, и все они от ее материнской груди возносятся к солнцу.