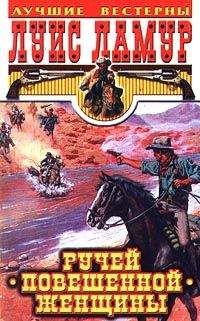Зря, зря трухнул я на пеньке, и напрасно остерегал меня батя: Угрюмому вовсе не до меня, вспугнувшего тишину и покой своим ребячеством. Только почему же он на пару с лосенком? И тут полоснула-обожгла внезапная догадка: а ведь пересекал-то я колеи на пашне, когда шел сюда от березы вовсе не безобидные: не по солому сюда кто-то ездил, буровил снега. Соломы-то здесь и в помине нет…
Эх, Угрюмый, Угрюмый! Не убереглась от тяжелой свинчатки твоя лосиха. Не убереглась… А то и в тебя, поди, тоже палили? И вот сейчас ты и отец, и мать для своего лосенка, у которого нет ныне в лесах никаких врагов, кроме… человека.
Пока шевелил я губами, вышептывая заклинания вслед лосям, они скрылись за березовым колком и, возможно, пересекли большую дорогу. Она теперь неурывно чадит машинами и колесными тракторами, и стоит мне подняться на нее, гладко отполированную, как тут же могу рассчитывать на место в теплой кабине автомашины или в салоне автобуса. И не успею толком что-либо вспомнить, как мелькнет влево от дороги село Юровка, и лог Шумиха, и опустевшие на Одине тополя с ветлами, а впереди угор, и за ним село Пески, куда мне на лыжах мять снега часа три, не меньше…
В снегу у пенька завозилась-пискнула мышь, с ближнего талового куста заразглядывала меня большая синица. Пора бы и мне вставать на лыжи, и солнышко не больно высоко, и заполдни споро скатывается на запад, в леса за речкой Крутишкой. Но в голове путаются мысли и что-то задерживает у Маланьиного болота, как на росстани за Юровкой…
Позади, в той неласково-чужой когда-то Уксянке, остались мама и беспомощный отец; в лесу — чудом уцелевшая, а вдруг из-за девчоночьего имени не спиленная на дрова береза? Перед глазами ярко заголубевшая тропа осиротевших лосей; а что, что ждет меня впереди? И куда, по какому следу пойти, ежели так давно — и навсегда — растаяла и ушла в землю моя лыжня.
Снова, как и прошлые годы, сродный брат Иван не дождался меня из города, а подвалил травы на своем покосе тракторной сенокосилкой. А как хотелось походить с литовкой по взгоркам и ляжинам у родимой речки Крутишки; зримо явить не только сенокосную пору, когда сам я был молод и отец был одногодок мне, теперешнему, но и вспомнить себя белоголовым парнишкой, что на пару с бабушкой ползал здесь на еланках и пустошах — обирал ежелетно урожайные клубничники. И тут, где отведен покос брату, мы всегда отдыхали с Лукией Григорьевной у круглой омутины. Помнится, бабушка окрестила ее калачиком: речка до поворота ворковала ручьем, а дальше раздваивалась округло и посреди глубокого омута возвышался пятачок суши с тремя березами и кустом калины.
— Чем не калач, Васька? — щурилась Лукия Григорьевна, запивая водой из омутины жестко-зеленые кобыляшные лепешки. — Сколь ни кусай его, а он и не убывает, хоть бадейками черпай.
Вода в речке вкусно-запашистая, студеная, под стать ключевой, и… родная. Стоит сполоснуть жар с лица или глотнуть самую малость, и видишь наяву свое село Юровку — в тополях и ветлах на вольном юру вдоль смиреной летом речки Крутишки. И где бы ты ни находился — выше по течению или здесь, на Песковских землях, — всюду речка напахивала домашней стороной…
— Выкосил, опять-таки выкосил без меня, — упрекнул я брата, когда на том же невеликом колесном тракторе с ласковой кличкой «топ-топ» приехали мы грести и метать сено.
— Выкосил, — согласился Иван, спрыгивая с трактора мимо духмяного валка высохших трав. — Извини, привычка. Сам знаешь, на кого надеяться было? Жена хворала, Володьша в техникуме учился. Пусть я агроном-семеновод, но и летом забот хватает. Сколько бы дней махался литовкой вручную, а на «топушке» сенокосилкой за вечер после работы управляюсь с покосом. И мне хорошо, и колхозу выгодно. А посенокосить нам еще придется, вот как смечем сено в зарод…
Иван тарахтел на тракторе, сгребая сено боковыми граблями, а я деревянными вилами-трехрожками отметывал его в копны. Июльская жара не угнетала — рядом под лобастым бугорком была та самая омутина-калач. Ну прожарит-прокалит меня солнышко, раздетого по пояс, что из того? Скину босоножки и ахну с бугорка в омутину — она свежа и прозрачна, как сорок лет назад; словно живой водой смоет не только зной и сенную труху, а и… годы с сединой.
…Солнце еще не закрыли березы и осины на песковских увалах, а мы с братом стаскали копны — опять же «топ-топ» выручил! — к березовой вершине: на нее вместе с сучьями начали раскладывать зарод. Осенью подцепит братан тросом вершину и гусеничный трактор, притащит зарод в остожье за конюшней. Это не на корове или быке «маять» сено по копешке за день, как возили мы в войну и после нее…
— Хорош, добер зарод! — очесывая деревянными граблями наше «изделие», наговаривал Иван. По всему видать, доволен мужик и спорой работе, и ведреной погоде, и хлебами на полях, мимо которых уркал наш тракторишко.
К омуту мы не бросились, а осторожно прокрались сбоку и выглянули из-за шиповника-свороба: не терпелось узнать, есть ли рыба ныне у его покоса? Вода с первого взгляда кажется буро-темной, но так именно кажется, а приглядишься и видишь, как она глубоко просматривается, и вон, вон они красавцы-чебаки! Черноспинные, широкие, с глазами цвета спелой красной смородины — точь-в-точь с тех самых кустов, что нашли мы когда-то с бабушкой чуть повыше омутины…
— Видишь? — шепчет Иван и светлая печаль в глазах. Я-то знаю, о чем он сейчас думает: вспоминает, как с сыном Володьшей угодили они на клев и удочками самой бесхитростной оснастки надергали ведро отборной плотвы. Тем летом сын окончил техникум, защитил диплом по механизации в своем колхозе и вернулся домой. И теперь бы он был с нами, если бы не страшная, не поддающаяся медицине болезнь…
Играет, гуляет косяк рыбы и взблескивает чешуей, словно высекает искры из нашей памяти. Вот ведь все так, как четыре десятилетия было, лишь постарели березы и намного раз обсыхал и омолаживался калиновый куст; а за четыре года после кончины племянника и подавно ничего не изменилось.
Неслышно спятились мы за шиповник, молча спустились к речке, ниже «калача» снова узкой, молчком умылись и перекусили у зарода. И когда «вернулись» из давнего и недавнего прошлого к самим себе, Иван бодро поднялся на ноги и досказал недоговоренное давеча:
— А сейчас за то, о чем твои руки истосковались, — за литовки!
— Да ну, неужели покосим?
— Досыта намашемся! И не беспокойся, литовки у меня есть, загодя припасены у Козлиной еланки.
— Что-то я о таковой не слыхивал, вроде бы все тутошные названия знаю? — удивился братовым словам.