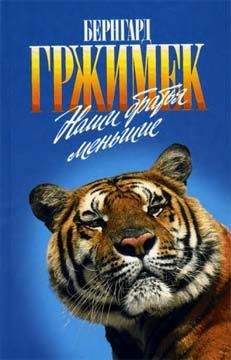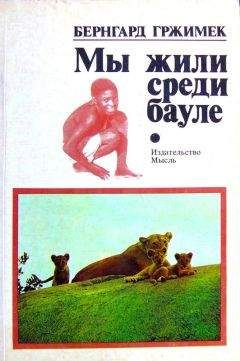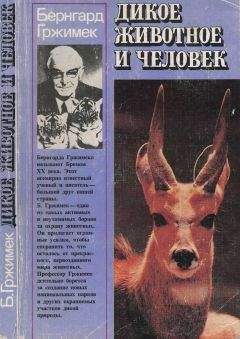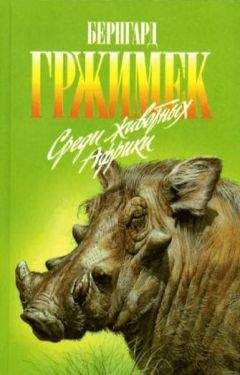Все эти щенята и все последующие отправлялись в никуда еще до того, как их слепленные глазки успевали открыться и увидеть Божий свет. Только один раз суждено было случиться иначе.
Я был молод. И влюблен. Предмет моей страсти был прелестен и безнадежно глуп, с пышной светлой шевелюрой и восемнадцати лет от роду. И надо же было ей как раз гостить у меня, когда у Сенты ожидались очередные щенки. И хотя гостья не умела отличить пшеницу от ячменя, а быка от коровы, тем не менее я ни в чем не мог ей отказать. Каким-то образом она прослышала о предстоящем «убиении младенцев» (хотя ей совершенно незачем было об этом знать), ужаснулась — ах, бедные щенятки! — взмолилась их не трогать, и я, дурак, конечно, согласился.
Ну разумеется, такие маленькие смешные существа, когда им всего пара недель отроду, могут доставить немало развлечений. Правда, проснувшись утром и спустив босые ноги на холодный пол, обнаруживаешь, что тапочки твои исчезли, а когда, чертыхаясь, идешь их искать, то находишь растерзанными в клочья на навозной куче. Когда белье для отбеливания на солнце разложено на траве, Сентины детки непременно пройдутся по нему грязными лапами. Схватив рубаху за оба рукава, они играют в «перетягивание каната» и рвут каждый в свою сторону. Когда сидишь за столом, то внезапно чувствуешь, что кто-то с аппетитом смачно жует шнурки от твоих ботинок.
Но щенки имеют тенденцию расти. Сента вскоре решительно «отлучила их от груди», и я, ей-богу, мог бы выкормить двух свиноматок всей той картошкой, хлебом и молоком, которые поглощали эти семь собак. Что с ними станется, когда они вырастут? Куда их девать? Так что в один прекрасный день их стало уже только шесть и моя маленькая гостья — сама наивность — узнала, что одного унес ястреб…
Но этот злой «ястреб» на том не остановился. Он стал прилетать каждый день и уносить по одному щенку. Мне приходилось отвечать на недоуменные вопросы. А потом, когда оказалось, что «ястреб» в образе конюха унес и последнего, шестого щенка, голубые глазки вдруг прозрели и я был подвергнут жесточайшему допросу, после чего понес жестокое наказание…
А Сента, та, казалось, нисколько не огорчилась, что кончилась бесконечная возня в доме и установился прежний порядок. Для нее материнская забота заканчивалась в тот момент, когда она отлучала свое потомство «от груди», и, если щенки после этого еще пытались лезть к ней, желая повозиться и неуклюже побороться, она умела довольно сурово поставить их на место. Они ей быстро надоедали. То же самое, между прочим, относилось и к человеческим деткам. Когда они слишком назойливо к ней приставали, она молча поднималась с места и отходила в сторону. Если же какой-то ребенок с ревом прибегал пожаловаться на Сенту, показывая кровоподтек на коленке, то я точно знал: он собаку мучил или дразнил. Ничего так не вредит воспитанию характера у детей, как собака, прощающая им любое бездумное мучительство.
Иной раз, подняв голову от письменного стола и глядя, не отрываясь от своих мыслей, на дикую грушу, одиноко возвышавшуюся посреди ржаного поля, я вдруг чувствовал, что Сента положила мне голову на колени и терпеливо ждет, когда я обращу на нее внимание. Сидит она так, вероятно, уже давно, и поза для нее не самая удобная, но она не шевелится. Лишь заметив на себе мой взгляд, она благодарно притискивается поближе ко мне и ее лучистые карие глаза смотрят на меня нежно и преданно. Чтобы не отрывать голову от моих колен, ей приходится, глядя на меня, забавно морщить лоб, и это меня всегда очень трогает. Она не просто привязана ко мне, она меня любит.
Когда я уезжал в Берлин на пару дней, то Сенту с собой никогда не брал — она мне казалась для города недостаточно авантажной, такая дворняжка. И что же это каждый раз было за душераздирающее прощание! Сента никак не могла, не хотела меня отпускать.
Владельцу усадьбы, к которому я тогда нанялся, пришла в голову блестящая идея завести вместо пикапа моторную лодку. На таком модном транспортном средстве очень приятно кататься воскресными летними днями по озерам. Но когда на подобной штуковине приходится добираться с вещами до места назначения, да еще если это происходит ноябрьским вечером, когда в темноте не видно ни зги, тогда такое «морское катание» превращается в настоящее бедствие. Поднимаясь вверх по реке Мюггельшпрее, из-за клочьев молочно-белого тумана часто не знаешь, как объехать торчащее из воды дерево — то ли слева, то ли справа; именно там, где предполагалось быть воде, оказывалась трава, а сев на мель, приходилось брести по щиколотку в воде через болотистые луга, чтобы призвать кого-нибудь на помощь. Словом, большое «удобство».
Каждый раз, когда я уезжал на лодке, Сента бежала по берегу, стараясь не терять меня из виду. А поскольку моторная лодка вниз по течению летела с молниеносной быстротой, то собака забегала сначала намного вперед, кидалась в ледяную воду и плыла наперерез лодке. И так несколько раз подряд, напрасно расходуя силы и ничего не добиваясь. Пока я наконец, стараясь не глядеть в ее умоляющие глаза, не приказывал ей вернуться домой. Тогда она садилась где-нибудь на возвышении в излучине реки и смотрела мне вслед до тех пор, пока я, оглянувшись в последний раз, мог уже различить одни лишь острые кончики ее ушей. Я понимал, что расставание для собаки было всегда значительно тяжелей, чем для меня, потому что я-то знал, что через несколько дней вернусь назад и мы снова увидимся. А ей, безусловно, каждый раз казалось, что мы расстаемся навсегда…
Пока она действительно не наступила, эта «разлука навеки». Я переезжал в город, а Сента оставалась там. Я утешал себя тем, что в тесной городской квартире из двух с половиной комнат она бы не чувствовала себя так привольно, как здесь, да и забот в Берлине мне хватало и без нее. Но через два с лишним года мне весной захотелось съездить снова в милые моему сердцу места. И я поехал. Интересно, жива ли Сента? Там ли она еще?
Когда я подошел к воротам, за забором раздался обычный в таких случаях злобный лай. Но когда я крикнул: «Сента!», лай этот внезапно перешел в радостный визг, а затем в дикое завывание — я слышал, что собака прямо беснуется; быстро вошел, отстегнул цепь, и Сента, моя добрая старая Сента, с диким воем, чуть не разрывая на мне костюм, пытается меня опрокинуть, лижет мне лицо, руки, танцует вокруг меня от переполнивших ее чувств дикарский танец…
Одну и ту же несправедливость нельзя совершать дважды. Я привязал к ошейнику Сенты бечевку и, ведя ее за тонкую веревочку, привез в Берлин. К этому времени я уже снимал отдельный домик с садом. Привыкнет ли Сента, этот деревенский цепной пес, к городской жизни? Я никогда не мог предположить, что затрапезная деревенская псина так быстро способна превратиться в образцово-показательную городскую собаку! Ни разу Сента не испачкала паркета. Более того, через несколько дней она уже твердо знала (без того, чтобы ее кто-нибудь этому учил), что определенные комнаты в доме для нее — табу. Если ее не приглашали, она никогда туда не заходила, а останавливалась на пороге и смотрела. Спала она в передней на жестком половике из кокосовых волокон, несмотря на то что двери в комнаты с соблазнительными коврами и мягкими диванами стояли открытыми. Никогда она не попрошайничала возле стола. Да мне достаточно лишь взглянуть на собак многих наших знакомых, чтобы вспомнить еще много других достоинств, которыми моя Сента от них отличалась.