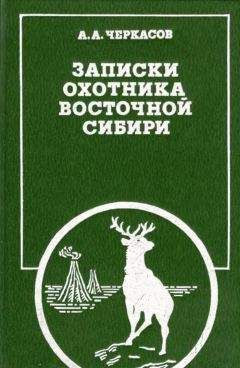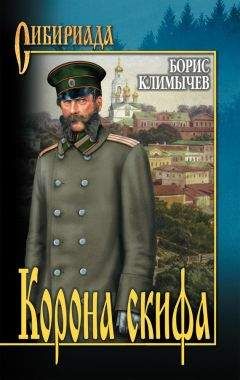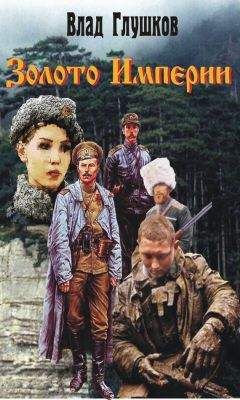Положение мое было критическое. Но вот, встав однажды рано утром, я вышел на улицу, сел на завалинку и посматриваю. Вижу, болтаясь во все стороны, пробирается мой партионец Баранов и несет целый туяс (бурак, посуда из бересты) вина. Я перевернул форменную шапку кокардой назад; сбросил сапоги, вывернул форменное пальто наизнанку и сижу — думаю, что будет? Баранов кой-как подобрался ко мне и, не узнав меня, спросил:
— А что, брат, не хошь ли выпить?
— Давай, брат, спасибо!
Он подал мне туяс, я открыл крышку и немного попил, но потом незаметно выплюнул эту дрянь и спросил:
— Почем брал?
И — о горе! — тут узнал меня Баранов и хотел было бежать, но я поймал его за шиворот и запихнул в калитку, во двор.
— Говори, где брал вино?
— Не знаю, ваше благородие!
— Говори, а то я тебя выдеру.
— Хоть запори до смерти, а где брал — не скажу!..
Я позвал штейгера Макарова, Михаилу, нарядчика Полуэктова, Тетерина, которые стояли на одной же квартире со мной; велел принести розог и разложил все еще упрямившегося в показаниях Баранова; но когда ему дали четыре розги, то он сказал: «Постой, барин, скажу всю правду. Брал я водку у жены бывшего старосты, заплатил десять копеек деньгами и отдал новый красный платочек».
— Где у ней вино? И куда она положила платочек?
— Вино, барин, в подполье; а платок она положила в сундучок, тут же в куте.
— Ты это не врешь?
— Нет, не вру; а за то на нее и сказываю, что она — сволочь! Нашего брата обидит.
— А есть у ней еще вино в подполье?
— Есть, барин! да еще какое — двоеное! то не продает, говорит, к Покрову берегу.
Я тотчас написал экстренную бумагу сотнику, заведующему караулом (казачьим селением), и просил его немедленно, с хорошими понятыми, пожаловать ко мне; а если он не явится, то я сейчас же пошлю нарочного к атаману Корсакову.
Не прошло и получаса, как ко мне заявился казачий сотник с четырьмя урядниками. Я объяснил ему, в чем суть, и просил сию же минуту сделать обыск у казачки такой-то, так как он раньше не оказывал мне никакой помощи, и что если он этого не сделает, то я брошу партию, уеду в Читу и донесу кабинету его величества, так как поисковая партия ходит от государя императора.
Сотник и понятые струхнули и ту же минуту отправились со мной в дом казачки. Я захватил все письменные принадлежности, отрезвившегося Баранова и своих сослуживцев.
Не стану описывать всей интересной процедуры обыска, а скажу только, что мы нашли в подполье громадные лагуны двоеной водки-самосидки и красненький платочек Баранова. Смешно и досадно было, когда женщина, чувствуя свою вину, сначала уселась на крышку подполья, а потом на заветный свой сундучок и ни за что не хотела сойти с этих драгоценностей; она говорила, что без мужа ни за что «не откроете я». Пришлось снимать ее силой, но она и тут не поддавалась и стала кусаться и плеваться. Видя «поличное» и мою решимость составить акт, сотник и понятые стали меня просить о снисхождении, и я, душевно радуясь такому исходу, порешил на том, чтоб казачку, для примера другим, высечь; а сам шепнул своему письмоводителю, чтоб он сообщил женщине о том, что сечь ее не будем, а сделаем только пример. Казачка, видя беду и просьбы своих же понятых, согласилась. Принесли розги. Заперли ворота, положили во всем одеянии бабу и велели ей кричать, а розгами шлепали по земле. Затем разбили глиняные лагуны с водкой и ушли по домам.
Этот казус имел такое влияние на караульцев, что все жители вылили все заготовленное вино и хлебную барду в речку; а на другой день все уже трезвые партионцы явились ко мне и жаловались только на то, что во всем селении нечем опохмелиться ни за какие деньги.
Пришлось пропившихся и полунагих рабочих одеть и тогда уже отправить далее, к месту работ, до которых оставалось еще более 140 верст. Но пример постыдного наказания казачки был так многознаменателен, что молнией облетел все окрестности и вина нигде уже не было, а кабаков в то время в этих селениях не существовало.
Прости, читатель, что я после встречи с Зарой знакомлю тебя с такой грязной картиной; но что делать, если так и было! Да, было почти 30 лет тому назад, когда еще розга имела магическое действие, а безвыходное положение заставило меня обратиться к такому приему, хотя в то время и не особенно резкому. И что мне оставалось делать, чтоб вывести спившихся рабочих, не имея никакой поддержки со стороны опустившейся до безобразия местной власти?
Придя в крайний пункт своего путешествия, в так называемый Бальджиканский караул, я остановил команду, дал ей отдохнуть, починиться, а затем увел людей в тайгу и распределил работы.
Бальджиканский казачий караул — это крайний пункт на юго-западной границе забайкальского казачества; и это, мне кажется, самое «убиенное место» из всех селений, какие мне только случалось видеть во всем обширном Забайкалье. Все селение состояло из семи дворов, в коих жило, должно полагать, не более 50 душ обоего пола. Бедность ужасная! Все домишки, с первого взгляда, поражали отсутствием домашнего обихода; а их небольшие окна были затянуты пузырем или полотном, пропитанным в древесной сере. Только у одного казака, Юдина, была отдельная изба с двумя окнами со стеклами. Конечно, этот дом и был вечной квартирой в кои-то века приезжающих чиновников. Ни в одном дворе не было не только телеги, но и ломаного колеса, потому что тут, кроме верховых троп, никаких дорог не существовало. Весь езжалый обиход жителей состоял в плохих седлах и простых дровнях, на которых зимою подвозили с лугов сено.
Бальджиканцы существовали скотоводством и звериным промыслом — только! Никакой культуры человеческого бытия они не знали, и вот почему все жители этой анти-Аркадии волей-неволей были зверопромышленники. В окрестностях Бальджиканского караула никакой хлеб и никакой овощ не произрастал. Сколько раз пробовали сеять ярицу, ячмень, садить картофель, капусту — и ничего не получалось. Поэтому несчастные жители все необходимые хлебные продукты привозили из окрестных селений, а в случае незаготовки питались одним мясом и молочными произведениями. Почему не родился хлеб и овощ — сказать не умею; но полагаю, что вследствие возвышенности места, сурового климата и короткости лета. Но травы росли хорошо, и потому скотоводство было довольно значительно и служило главным материалом бытия караульцев, этого забытого богом уголка Сибири.
Сами бальджиканцы называли свое место «убиенным» и нередко вспоминали известную легенду о рябчике, но с особым прибавлением. Они говорили, что когда Христос путешествовал по земле, то дошел до их места; но тут его испугал лесной рябчик своим крутым и шумным вспорхом. Тогда Спаситель осердился только в первый раз — он наказал рябчика, бывшего в то время большой птицей, тем, что сделал его маленьким; а в память этого события белое мясо рябчика разбил по всем другим сородным ему птицам, и вот почему у тетери, глухаря, куропатки есть часть белого мяса, которое зовут рябчиковым мясом. На том же месте, где испугался Спаситель, он плюнул и повелел, чтоб тут кроме леса и травы ничего более не произрастало. На плевке же Христа по незнанию человека построили Бальджиканский караул, и вот почему жители этого места так бедствуют до настоящего дня.