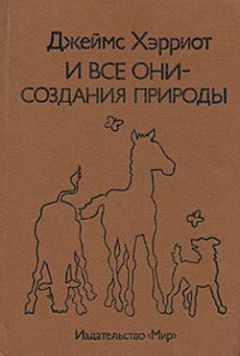выделений, ни учащенного дыхания. Но что-то было очень и очень не так.
Я еще раз поглядел на ягненка. Для этих мест он родился рановато. Какая-то жестокая несправедливость чудилась в том, что этот малыш увидел свет среди йоркширских холмов, таких суровых в марте! А он к тому же совсем крошка… Что-что?.. Минутку… Неясная мысль обрела форму: слишком уж он мал, чтобы быть единственным!
— Несите-ка сюда ведро, мистер Инглдью! — скомандовал я, сгорая от нетерпения скорее проверить свою догадку. Но когда я бережно поставил ведро на неровный дерн, передо мной внезапно предстал весь ужас моего положения. Мне надо было раздеться!
Ветеринаров не награждают медалями за мужество, но, право же, стащив с себя пальто и пиджак на этом черном холодном склоне, я вполне заслужил подобный знак отличия.
— Держите ее за голову! — прохрипел я и быстро намылил руку по плечо. Светя фонариком, я ввел пальцы во влагалище и почти сразу же уверился в своей правоте: они наткнулись на курчавую головку. Шея была согнута так, что нос почти касался таза снизу, ножки вытягивались сзади.
— Еще один ягненок, — сказал я. — Положение неправильное, не то бы он вышел сразу за первым.
Пока я договаривал, мои пальцы уже извлекли малыша и осторожно опустили на траву. Я полагал, что жизнь в нем успела угаснуть, но едва его тельце прикоснулось к ледяной земле, как ножки судорожно дернулись и почти тут же ребрышки у меня под ладонью приподнялись.
На мгновение восторг, который всегда рождает во мне соприкосновение с новой жизнью, — восторг, всегда неизменный, всегда горячий, — заставил меня забыть о режущем ветре. Овца тоже сразу ободрилась: в темноте я почувствовал, как она с интересом потыкалась носом в новорожденного.
Но мои приятные размышления оборвало какое-то позвякивание у меня за спиной, сопровождавшееся приглушенным восклицанием.
— Чтоб тебе! — крякнул Харолд.
— Что случилось?
— Да ведро это. Опрокинул я его, значит, будь оно неладно!
— Господи! И вода вся пролилась?
— Ага. Ни капли не осталось.
Да уж! Рука у меня была вся в слизи, и надеть пиджак, не вымыв ее, я никак не мог.
Из мрака донесся голос Харолда:
— В сарае, значит, вода-то есть.
— Отлично! Нам ведь все равно надо устроить и матку с ягнятами.
Я перекинул пиджак и пальто через плечо, сунул ягнят под мышки и, спотыкаясь о кочки, побрел 1 где по моим расчетам находился сарай. Овца, явно испытывая облегчение, трусила за мной. И вновь путь мне указал Харолд.
— Сюда, значит, — донесся до меня его крик.
Добравшись до сарая, я с радостью юркнул под защиту его каменных стен. Ночь была не для прогулок в одной рубашке. Меня уже бил озноб. Я поглядел туда, где возился старик. Фонарик был при последнем издыхании, я различал лишь неясные очертания Харолда и не мог понять, чем он занимается. По-видимому, он что-то долбил камнем, подобранным на лугу. И тут меня осенило: он разбивал лед в колоде!
Затем он зачерпнул ведром воду и подал его мне.
— Вот и помоетесь! — объявил он победоносно.
Мне казалось, что замерзнуть сильнее уже невозможно, но едва мои руки окунулись в черную жижу с плавучими льдинами, как я убедился в обратном. Фонарик угас, и почти сразу же мыло выскользнуло у меня из пальцев. Обнаружив, что я усердно мою руку ледышкой, я сдался и взял полотенце.
Где-то поблизости Харолд напевал себе под нос так безмятежно, словно сидел перед своим очагом на кухне. Изрядная доза алкоголя, бушевавшая в его крови, видимо, сделала его холодоустойчивым.
Мы затолкнули овцу с ягнятами в сарай, и, чиркнув на прощание спичкой, я убедился, что мать с новорожденными удобно устроилась среди сухого и душистого клевера. Остаток ночи им предстояло провести в безопасности и тепле.
По пути до деревни со мной ничего не случилось, поскольку ведро на коленях у Харолда было пустым. Он вылез перед своим домом, а я доехал до конца деревни, чтобы развернуться. Когда я вновь проезжал мимо его дома, оттуда вырвалось пронзительное:
Если бы в мире жили только ты да я!
Затормозив, я опустил стекло и в изумлении прислушался. Невозможно себе представить, как гремели эти вопли в тишине пустой улицы, и, если, как мне говорили, смолкнуть им предстояло не раньше четырех утра, я мог только пожалеть обитателей деревни.
Ничего б не изменилось, ты уж мне поверь!
Мне вдруг пришло в голову, что пение Харолда способно приесться довольно скоро. Сила его голоса не оставляла желать лучшего, но рассчитывать на ангажемент в лондонской опере ему тем не менее не приходилось. Фальшивил он ежесекундно, а в верхах пускал такого петуха, что у меня уши вяли.
И друг друга мы б любили, точно как теперь!
Я поспешно поднял стекло и рванул машину с места. Бездушный автомобиль катил себе между нескончаемыми тенями живых изгородей, а я, окостенев, скрючился над рулем. И тело и мысли у меня онемели, и я почти не помню, как добрался до Скелдейл-Хауса, как поставил машину в гараж, со скрипом затворив ворота бывшего каретного сарая, и как прошел через длинный сад.
Но когда я забрался под одеяло, Хелен не только не отстранилась, что было бы вполне естественно, а, наоборот, крепко обняла ледяную глыбу, в которую превратился ее муж. Это было таким неописуемым блаженством, что ради него стоило претерпеть все страдания этой ночи.
Я взглянул на циферблат будильника. Стрелки показывали три. Согреваясь, я сонно вспомнил овцу и ягнят, уютно устроившихся на душистом сене. Они уже, наверное, спят. И я скоро усну, и все спят…
То есть все, кроме соседей Харолда. Им предстоял еще целый час бдения.
Едва я поднялся на кровати, как увидел вдали холмы за Дарроуби.
Я встал и подошел к окну. Утро обещало быть ясным, лучи восходящего солнца скользили по лабиринту крыш, красных и серых, свыкшихся с непогодой, кое-где просевших под тяжестью старинной черепицы, и озаряли зеленые пирамидки древесных вершин среди частокола дымовых труб. А надо всем этим — величественные громады холмов.
Как мне повезло! Ведь это было первым, что я