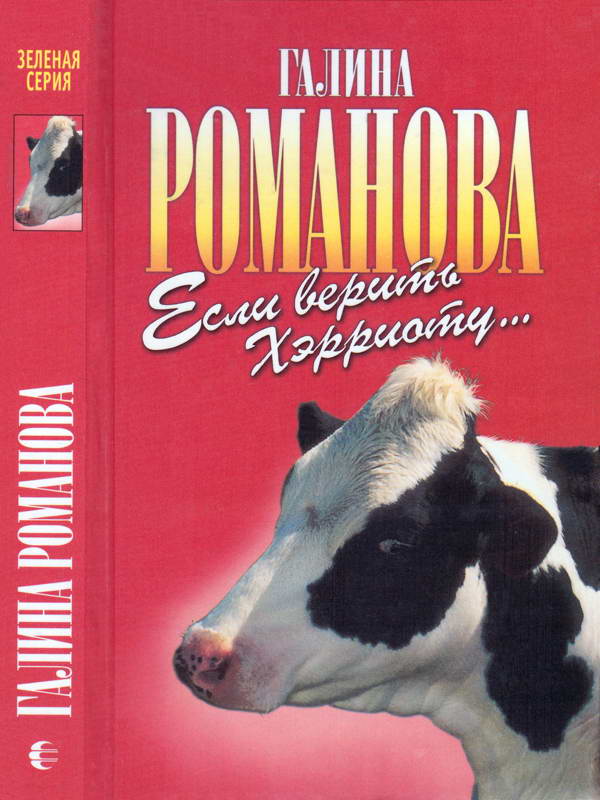открыла лист. На всем развороте были изображены рысистые бега — крупный орловский серый в яблоках рысак, вытянув гордую прямую шею, отчаянно стремился к финишу, пока еще только намеченному на бумаге двумя штрихами, а рядом с ним, готовый вырваться вперед, мчался его гнедой соперник, чья шея была изогнута круто, по-лебединому. Качалок с наездниками видно не было — у серого ее загораживал боком гнедой жеребец, а у того она, словно нарочно, была отрезана краем листа, из-за которого виднелась голова третьего коня.
— Что это? — сказала я.
Более глупого вопроса Лариса, наверное, давно не слышала, но спокойно подписала как раз над головой серого рысака: «Пион». Как я потом узнала, это был один из чемпионов породы, создатель своей линии в орловской рысистой породе.
Я сама неплохо рисовала — чаще всего тоже животных, поскольку с портретным сходством людей у меня дела всегда обстояли плохо. А потому, словно подхваченная каким-то порывом, с того дня тоже принялась все свободное время тратить на рисунки лошадей. Их изображения начали появляться в каждой тетради на последней странице. Заполнив одну, я продвигалась дальше, и порой случалось, что листы изрисованные и исписанные «встречались» — идет запись лекции, а дальше начинаются лошади — пасущиеся, встающие на дыбы, кормящие жеребят, взмывающие в прыжках, танцующие, как индийские наложницы…
Сама Лариса рисовала не так — она не ограничивалась зарисовками, а всегда тщательно штриховала каждую лошадь, прорисовывая чуть ли не по волоску лоснящиеся шкуры и развевающиеся гривы. Начав с глаза — она всегда так рисовала, — не останавливалась до тех пор, пока не выписывала последний волосок на хвосте. И всегда ставила подпись под рисунком. Она рисовала только конкретных животных, и именно от нее я впервые услышала такие прославленные в коннозаводстве имена, как Норсерн-Дансер, Пион, Фортунато, Монкотур, Абсент, Пиолун, Ноубл-Виктори, Воломайт… Каждое имя звучало как легенда, и о каждом она могла рассказать. Казалось, в ее памяти собраны биографии всех сколько-нибудь знаменитых лошадей последних полутора сотен лет.
Единственным исключением были лошади из тех же индийских фильмов. Она рисовала только их морды, за редким исключением прорисовывая еще и плечи и намечая линию спины и груди. Зато головы были выписаны столь четко, что ей могли бы заказывать портреты своих любимцев восточные богачи. И у всех лошадей была одна общая странная черта — их уши были изогнуты так, что кончики едва не смыкались, образуя изящную арку.
— Разве могут у лошадей быть такие уши? — как-то задала я вопрос.
— Конечно, — ответила Лариса. — Вот пошли со мной в кино, сама увидишь.
В те годы чуть ли не в каждом кинотеатре шли индийские фильмы, так что можно было выбрать не только фильм, но и более удобный кинотеатр. Лариса знала девять десятых фильмов наизусть и ходила на них, по ее собственному признанию, только для того, чтобы слушать песни. Она выбрала подходящий фильм, где я могла вдоволь налюбоваться и на яркие краски, и на красивых людей, и на лошадиные уши. И в самом деле, не стоило большого труда убедиться, что она была права! Таким образом закрученные уши встречаются, кроме индийских, только у лошадей кабардинской породы, да и то не у всех. По словам Ларисы выходило, что это аборигенная порода, в чем-то сходная с ее любимой арабской.
Раз став подругами, мы уже не расставались надолго до самого конца. Даже на летнюю практику в стройотряды ездили вместе и жили в известной уже Шаморге в одной комнате. Вот только с местами работы нам не повезло — я была в бригаде, носившей имя «Шаморга», а Лариса попала в «Бригаду „Ух!“». Так что мы встречались только после работы и, усевшись с ногами на кроватях, засыпали друг друга рассказами о наших коровах.
— А у меня одна коровка есть, — говорила Лариса, — я ее Хи-Хи назвала.
— Почему?
— Мне доярка сказала, что ее зовут Малышкой, а я взяла и краской написала у нее на боку — «хи-хи». У нее самое лучшее молоко, вот я ее и отметила. Она такая хорошенькая…
Словно в доказательство, уже на следующий день у нас в комнате на столе стояла трехлитровая банка, полная желтоватого, необыкновенно вкусного молока. Мы выпили ее за день, но Лариса принесла еще, потом еще… Целый месяц мы пили молоко ее Малышки Хи-Хи, заедая его хлебом с повидлом. Тридцать банок выпили.
— …А сегодня я чуть быка не выдоила, — со смехом заявила Лариса однажды.
— Как это?
Мы навострили уши — в нашей комнате Лариса была единственной девчонкой из другой бригады, и смешная история еще до нас не дошла.
— Ну, очень просто — открываю калитку, и входит корова. Я не посмотрела внимательно, запустила ее в станок, комбикорма ей насыпала, потом за полотенце взялась — вымя подмыть. А она стоит лопает вовсю… Наклоняюсь, а это бык! Вот если бы я его начала мыть… — Лариса смеялась над своей оплошностью не меньше нашего. — Еле выгнала потом — ему понравилось!
— Ну еще бы! Он небось комбикорма давно не ел, — поддержали мы.
Если же речь держал кто-то другой, Лариса никогда не стремилась перебить говорящего. Она просто умолкала и углублялась в рисование. Бумагу и авторучку — карандашей не признавала — таскала с собой повсюду, но, странное дело, никогда не была рассеянной, что часто случается с художниками. Да она и не была художником — просто ей нравилось рисовать лошадей. В этом выражалась ее любовь к ним.
Дело в том, что ей самой природой не было назначено когда-нибудь работать с ними. Свою болезнь она скрывала с таким мужеством и тщанием, что лишь когда случилось несчастье, мы об этом узнали.
Ее мама, провожая нас в стройотряд, всякий раз предупреждала, что в кармашке ее сумки лежат таблетки, которые нужно дать Ларисе, если ей вдруг станет плохо. Но все ее предупреждения оказывались не нужны до тех пор, пока однажды на вокзале Лариса не упала, едва сойдя с поезда…
Приехавшая «скорая помощь» констатировала мгновенную смерть.
Даже сейчас, когда пишу эти строки, я невольно задумываюсь над вечным вопросом: «Надо ли?» Зачем еще раз ворошить прошлое, вспоминать те дни? Боль давно прошла, утихла даже в сердце ее матери, и мы тоже давно забыли свою подругу, никто из нас не назвал свою дочь ее именем. Да и стоит ли рассказывать кому-то о девушке с веснушками во все лицо и ее любви к лошадям? Но как подумаю, что собственную любовь к ним я получила