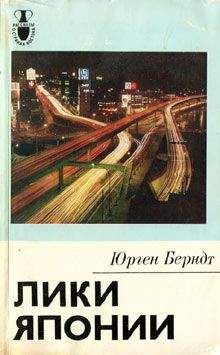Книга известного немецкого исследователя японской литературы Юргена Берндта посвящена на сей раз отнюдь не только вопросам литературы; как раз об особенностях литературного творчества и его истории в Японии он пишет очень мало. Это раздумья и впечатления о Японии в целом, о различных сторонах японской современной действительности, об особенностях японской национальной психологии, об условиях жизни в Японии, об отношении к внешнему миру и т. д. В то же время характерно, что книгу написал профессиональный японовед, знакомившийся с Японией и ее культурой долго, детально и целенаправленно. Наверное, именно поэтому, хорошо зная свой предмет, автор отказался от последовательного, всестороннего рассмотрения страны и ее народа, а дал ряд очерков об отдельных, наиболее близких ему аспектах японской жизни. Более того, и здесь надо отдать ему должное как ученому, он постоянно подчеркивает, что впечатление есть впечатление; всегда остается возможность того, что что-то недопонято, что под внешним контуром лежат какие-то иные, более глубинные пласты, в которые иностранцу, даже хорошо знающему страну и язык, нелегко проникнуть. Такая осторожность, несомненно, делает автору честь, и она для читателя ценнее, чем те поспешные категорические суждения, которые порой выносятся более поверхностными и менее профессиональными наблюдателями и, нередко попадая в печать, способствуют формированию расхожих, с трудом изживаемых стереотипов.
Не ставя задачу показать читателю всю Японию или создать нечто такое, что могло бы претендовать на показ ее сущности, факторов, определяющих различные стороны жизни, автор тем не менее очень ярко освещает многие существенные грани этой жизни. Многие его наблюдения, описания, встречи, переживания говорят сама за себя и не нуждаются в комментировании, но по некоторым моментам представляется необходимым кое-что сказать, причем на столько вступая с автором в полемику, сколько дополняя его материалы и суждения.
С одной стороны, автор вполне оправданно и правомерно иронизирует над тем, как любят многие японцы (особенно те, для которых рассуждения о соотношении японской и иностранной культуры являются профессиональным занятием) подчеркивать уникальность, неповторимость и непереводимость глубинных основ японской цивилизации, особенностей исторического развития Японии. С другой стороны, он и сам на многих примерах с первых же страниц своей книги старается показать, что в Японии на каждом шагу встречается необычное, своеобразное, такое, к чему плохо приложимы традиционные «западные» мерки и понятия.
Как человек, достаточно долго занимавшийся изучением японской культуры и истории, я должен сказать, что, по крайней мере по моему личному мнению, то и другое, разумеется, своеобразно и самобытно, но не в большей степени, чем культура и история любого другого большого народа, любой другой крупной страны. Культура и история русских, французов, шведов, а также малайцев, сингалов, вьетнамцев, арабов или мексиканцев обладает своей самобытностью и уникальностью в той же мере, как японская, и если ряд европейских культур по определенным параметрам можно объединить и противопоставить японской, то некоторые азиатские культуры (например, на Филиппинах) весьма сходны с японской (то, что в психологии, в поведении роднит филиппинцев и японцев, противопоставляет их европейцам). Короче говоря, несостоятельна будет попытка провести дихотомию мировой культуры по линии «японцы — неяпонцы». Между тем произведения многих японских авторов — социологов, психологов, специалистов по истории культуры — явно или косвенно содержат именно эту претензию.
Подобная претенциозность не нова в японской истории. Идеологи правящих кругов неоднократно выступали в аналогичном духе и в недавнем, и очень давнем, и даже незапамятно давнем прошлом. Ненаучно было бы говорить, что японцам присущ воинственный дух. Однако конкретная историческая обстановка — разделение страны на много островов, а отдельных островов — на изолированные долины, наличие отсталой и беззащитной айнской северной периферии, близость богатых, но уязвимых в военном отношении побережий Китая и Кореи — и ряд других обстоятельств делали японскую феодальную верхушку действительно весьма воинственной и агрессивной, и инерция этой феодальной традиции живет кое в ком и по сей день, о чем говорит рассказанная в книге история с писателем Юкио Мисимой.
В этой связи не вполне верно и утверждение, что японцы якобы «никогда не были народом мореходов». Завоевательные походы за море, в Корею, предпринимались и в IV веке, при императрице Дзингу, и в XVI веке, при диктаторе Хидэёси. В течение всего средневековья японские пираты были настоящей чумой для прибрежного населения Восточного Китая; японская экспансия в XVI веке, политическая, экономическая и отчасти военная, распространялась на Филиппины и Таиланд. Лишь с XVII века, когда правительства сёгунов Токугава, взяв курс на самоизоляцию страны, запретило строить суда дальнего плавания, японское мореходство на два столетия стало исключительно каботажным.
Воинственность и экспансионизм японской правящей верхушки почти во все периоды истории вызывали к жизни идеологию японской исключительности и претенциозность в самооценке. Так, старое название Японии, Ямато, восходящее к названию одного из княжеств-гегемонов в начале нашей эры, еще до возникновения единого японского государства, значит попросту «горцы», «люди гор». Но это значение забыто, ибо пишется это слово искусственным сочетанием иероглифов «дай» и «ва», что и впрямь буквально читается как «великая гармония». Однако в древнекитайских хрониках начала нашей эры японцы действительно называются «люди ва», но пишется это «ва» или «во» отнюдь не иероглифом «гармония», а другим, менее почетным. «Ва» по-японски — корень местоимения 1-го лица (вага, варэ, ватакуси); видимо, при первых встречах японцы называли себя перед китайцами просто «мы», что и вошло в хроники, потом появились «большие ва», а потом уже домыслена «гармония». Китайское обозначение Японии Жибэнь (откуда пошло Нихон, или Ниппон) означает просто «где восход солнца», но в японском переводе-кальке Хи-но-Мото, употребляющемся в поэзии, это уже «пьедестал солнца». Примеры такого рода можно было бы умножать без конца.
Проповедь «японской исключительности», «непохожести на других» действительно очень распространена в Японии. Однако, даже если и не все «проповедники» субъективно осознают это, объективно она служит вполне определенным классовым целям, выполняет вполне определенный классовый заказ. Одна из этих целей, пожалуй самая важная, такова: внушить японским трудящимся, что исторические закономерности, действующие в остальном мире, к Японии неприменимы. А стало быть, неважно, что во всем мире есть антагонистические классы, есть классовая борьба, чреватая необходимостью перемен в общественном устройстве и т. д. Но Япония, говорят «проповедники», совсем другая, и здесь эти явления не только не обязательны, но и совершенно противоестественны. Япония может и должна обойтись без них и пойти по пути классового мира и пресловутой «великой гармонии». Думается, что причину живучести мифа о японской исключительности следует искать прежде всего в стремлении обосновать этот тезис.