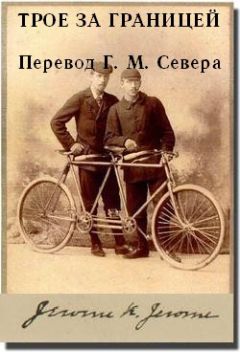То, как они отнеслись к моему предложению, раздражило меня. Ничто так не раздражает меня, как зрелище человека, который сидит и ничего не делает, в то время как я работаю.
Я жил однажды с человеком, который доводил меня таким способом до бешенства.
Бывало, валяется на диване и по целым часам наблюдает за тем, что я делаю, следя за мной глазами, куда я ни двинусь по комнате. Он уверял, что ему положительно полезно смотреть, как я вожусь. Глядя на меня, он чувствовал, что жизнь не праздный сон для зеванья и ротозейства, а благородная задача, полная долга и сурового труда. Говорил, что удивляется, как это мог жить, прежде чем встретился со мной, когда ему не приходилось смотреть ни на чью работу.
Я, например, не таков. Я не могу сидеть смирно и смотреть, как другой трудится и надрывается. Так и подмывает меня вскочить и прохаживаться, держа руки в карманах, и наставлять его, как и что делать. Всему виной моя энергическая природа. Тут уж ничего не поделаешь.
Тем не менее я ничего не сказал, но принялся за работу. Дела оказалось больше, чем я предполагал, но, в конце концов, я покончил с саквояжем, сел на него и застегнул ремни.
— А ботинки ты не станешь класть? — спросил Гаррис.
Я оглянулся и увидел, что позабыл их положить. Как это похоже на Гарриса. Разумеется, он не мог сказать ни слова, пока я не стянул саквояж ремнями. А Джордж стал смеяться — этим своим несносным, бессмысленным, тупоголовым, разинутым до ушей хохотом. Как этот смех может взбесить меня!
Я отпер саквояж и уложил ботинки, и тут, когда я уже готовился запереть его, меня осенила ужасная мысль. Уложил ли я свою зубную щетку? Не сумею сказать почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку или нет.
Мысль о зубной щетке, как тень, следует за мной в дороге и отравляет мне существование. Мне снится, что я не уложил ее, и я просыпаюсь в холодном поту, встаю с постели и ищу ее. А поутру я укладываю ее раньше, чем почистил зубы, и снова вынужден раскладываться, чтобы добыть ее, и она всегда оказывается на самом дне; потом я снова укладываюсь и забываю ее, и мне приходится мчаться наверх в последнюю минуту и везти ее на железнодорожную станцию завернутой в носовой платок.
Разумеется, мне пришлось вывернуть из саквояжа все без остатка, и, разумеется, щетка не нашлась.
Я довел все вещи приблизительно до того состояния, в каком они должны были находиться до сотворения мира, когда еще царил хаос. Разумеется, щетки Джорджа и Гарриса попадались мне по восемнадцати раз кряду, но своей я найти не мог. Я положил вещи обратно одну за другой и каждую поднимал кверху и встряхивал. Щетка нашлась в сапоге. Потом я уложил все сначала.
Когда я закончил, Джордж спросил меня, внутри ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, внутри ли мыло или нет; захлопнул саквояж и стянул ремни, но увидел, что уложил свой табачный кисет, и вынужден был снова отпереть его. Окончательно запертым он оказался в 10 часов 5 минут пополудни, а оставалось еще уложить корзины. Гаррис сказал, что нам надо пуститься в путь меньше чем через двенадцать часов, и что, пожалуй, будет лучше, если они с Джорджем сделают остальное; и я согласился с ним и уселся посмотреть, а они принялись за дело.
Начали они с легким сердцем, очевидно, намереваясь показать мне, как делается дело. Я не делал замечаний; я только ждал. Когда Джорджа повесят, Гаррис будет худшим укладчиком в мире; я смотрел на груды тарелок, чашек, чайников, бутылок, мисок, спиртовок, пирогов, помидоров, и т. д. и чувствовал, что зрелище будет интересным.
Я не ошибся. Они начали с того, что разбили чашку. Это было их первым подвигом. Сделали они это единственно для того, чтобы показать, что могут сделать, и возбудить к себе интерес.
Потом Гаррис уложил клубничное варенье вместе с помидором и раздавил помидор, и пришлось выбирать помидор из варенья чайной ложкой.
Затем настала очередь Джорджа; он наступил на масло. Я ничего не говорил, но подошел поближе, сел на край стола и стал смотреть. Это бесило их больше, чем все, что я мог бы сказать. Я это чувствовал. Они начали нервничать и суетиться, и наступали на вещи, и клали вещи за спину, и не могли их найти в нужную минуту, и уложили пироги на дно, и положили сверху тяжелые вещи, и продавили пироги.
Всюду, куда только было можно, они насыпали соли, а уж что касается масла! Никогда во всю свою жизнь я не видел, чтобы два человека натворили столько дел с куском масла, ценой в один шиллинг два пенса! После того как Джордж соскреб его со своей туфли, они попытались вложить его в котелок. Оно не лезло, а то, что влезло, не хотело вылезать обратно. Наконец они выскребли его вон и положили на стул, и Гаррис тотчас сел на него, и масло пристало к нему, а они пошли разыскивать его по всей комнате.
— Я готов присягнуть, что положил его на этот стул, — сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье.
— Я сам видел, как ты его клал не далее как минуту назад, — подтвердил Гаррис.
Снова они отправились вокруг комнаты на розыски и снова сошлись посредине и воззрились друг на друга.
— Удивительнейший случай! — заметил Джордж.
— В высшей степени таинственный! — подтвердил Гаррис. Тут Джордж зашел Гаррису в тыл и увидал масло.
— Да вот же оно, тут как тут! — воскликнул он с негодованием.
— Где? — крикнул Гаррис, поворачиваясь и устремляясь куда-то.
— Да стой же ты смирно! Куда это ты? — заревел Джордж, бросаясь в погоню.
Тогда они сняли его и упаковали в чайник.
Монморанси, как и следовало ожидать, принимал во всем участие. У Монморанси одна только честолюбивая мечта в жизни: попасться под ноги и быть обруганным. Если ему удается протиснуться туда, где он особенно неуместен, и отравить всем существование, и присутствующие выйдут из себя и будут швырять в него чем попало, только тогда он чувствует, что его день не пропал даром.
Высшая его цель — это устроить так, чтобы кто-нибудь споткнулся об него и продолжал ругать его непрерывно в течение часа; когда ему удается этого достигнуть, его самомнение становится поистине невыносимым.
Он приходил и садился на те самые вещи, которые подлежали немедленной укладке, и пребывал в непоколебимом заблуждении, что каждый раз, когда Гаррис или Джордж протягивают за чем-нибудь руку, им требуется его холодный влажный нос. Он вступил ногой в варенье, и рассыпал чайные ложки, и притворился, что лимоны — крысы, и влез в корзину и умертвил троих из них, прежде чем Гаррис огрел его сковородкой.
Гаррис уверяет, что я поощряю его. Вовсе я его не поощряю. Такая собака не нуждается в поощрении. То, что он делает, он делает по внушению естественного, прирожденного греха, родившегося вместе с ним.