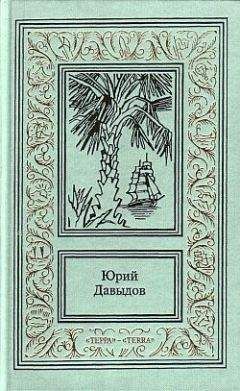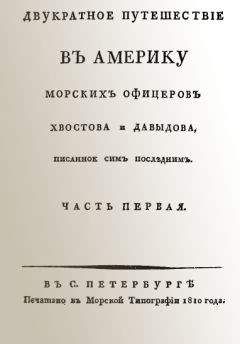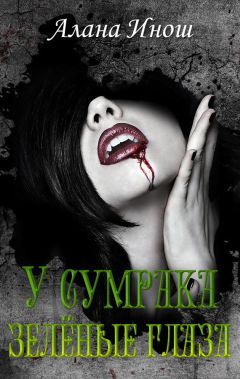Режущая боль развалила ему грудь, как топором. И вдруг сквозь свист, шипение, клекот:
– Держи-и-и-и-ись…
На краю льдины лежал Врангель. Штурман и матрос навалились ему на ноги. Врангель протягивал Федору ту длинную, с бубенчиками палку, которая помогала управлять нартами. Федор, словно в снопе света, увидел мокрое и страшное лицо Врангеля. Федор рванулся, казалось, лопнули сухожилия…
Так было в марте 1823 года, когда отряд вновь вышел на поиски Земли Андреева. Это было последнее «препоручение» Адмиралтейства. Остальное они уже совершили: осмотрели Шелагский мыс и развеяли гипотезу англичан о соединении двух материков; положили на карту тридцать пять градусов по долготе – тысячеверстное побережье; изучили огромный бассейн Колымы; собрали коллекции и метеорологические наблюдения. Но Земля Андреева… И вот лежал на льдине полумертвый Федор Матюшкин, лицеист «нумер двенадцатый», моряк-«кругосветник». То проступали из мглы, то таяли в ней силуэты Врангеля, Козьмина, матросов. Медленно, как смола, шла кровь в жилах, больно толкалась в пальцах рук и ног.
Врангель принял отчаянное решение. У путников остались три нарты и три упряжки. На одни нарты уложили Федора. Михайло сел рядом. Все нарты поставили вровень. Собаки дрожали и поводили ушами. И вдруг страшно гаркнул казак Артамонов, и упряжки разом, сильным броском взяли с места. Мчались нарты, гикал казак Артамонов, кричали Врангель с Козьминым и Михайло с Савелием, гикали и кричали, точно хотели заглушить стук своих сердец, грохот льдов, шорох, всплески.
Льдины не поспевали разомкнуться под тяжестью упряжек. Наконец очутились на неподвижной ледяной равнине.
Казаки сварили похлебку; загасив костерок, подобрали угли.
Отряд расположился на ночлег.
И только штурман, только не знающий устали штурман Козьмин, принялся долбить лед: ему надо было измерить глубину, взять пробу грунта.
Федор разлепил веки, посмотрел на штурмана с изумлением, подумал, что Прокопий Тарасович, должно быть, и впрямь двужильный, и тотчас забылся сном.
Во сне Федор смутно ощущал, как возвращается к нему тепло, как все тело его наливается приятной истомой, и так же смутно почувствовал, как кто-то неторопливо, методически и упрямо растирает ему ноги, руки, грудь, бока.
Утром Врангель записал в дневнике: «Ночь прошла спокойно». И, пряча карандаш, не глядя на Матюшкина, спросил:
– Как, Федор? – Он впервые называл Матюшкина по имени.
И Матюшкин понял: от его ответа зависит, продолжит ли отряд поиски Земли Андреева или повернет к Нижне-Колымску.
Врангель улыбнулся краешком сухих, растрескавшихся губ. И Федор понял еще и то, что это он, Врангель, растирал его всю ночь напролет.
– Держи мористее, Фердинанд, – ответил Матюшкин, тоже впервые называя Врангеля по имени.
Полчаса спустя отряд был в пути.
Вновь обходил он широкие полыньи, где зловеще всплескивала тяжелая, плотная студеная вода. Вновь пробивался сквозь торосы, вяз в рыхлом глубоком снегу.
А на северо-востоке трепетали сполохи, призрачные, таинственные, как и та земля, которую отыскивал отряд…
Может быть, сержант Степан Андреев, геодезист екатерининских времен, видел огромный айсберг?
Быть может, ходил он не к северо-востоку от Медвежьих островов, как полагали в Адмиралтействе, а на северо-запад и тогда действительно «усмотрел в великой удаленности» какую-то неведомую землю?
Но на северо-западе от Медвежьих островов Врангелю и его товарищам делать было нечего: в 1806 году там был открыт остров, окрещенный Новой Сибирью.
Часть вторая
Под сенью парусов
Какой-то сановник прибыл на станцию в деревне Липня одновременно с Федором и забрал всех лошадей. Раздосадованный задержкой, а пуще того разыгравшимся ревматизмом, Федор молча ходил по горнице. Молодой смотритель читал книгу. Матрос Нехорошков латал в уголку мундир.
Протекло уже полгода, как Федор покинул Нижне-Колымск; Врангель с Козьминым остались завершать хозяйственные дела экспедиции, да уж и они, наверно, были на дороге в Москву.
Отворилась дверь, потянуло январским холодом, в горницу вошел человек в длинной дорожной дохе с башлыком.
– А-а, Петр Алексеевич… – приветливо сказал смотритель, поднимаясь со стула. – Милости просим.
Вошедший поздоровался со смотрителем, поклонился Матюшкину, сбросил доху, потом снял шинель. Это был офицер конвойной команды. Смотритель крикнул, чтобы подали самовар, спросил:
– С партией, Петр Алексеевич?
Офицер, обтирая усы, благодушно отвечал, что идет с партией, но в Липне останавливаться не станет, чтобы засветло прийти в Дмитриевское да там и заночевать.
– И большая партия? – спросил смотритель, принимая у бабы самовар и устанавливая его перед офицером.
– Самая, сударь, обыкновенная: около двухсот душ… Нда-с, без чайку в дорожке – что свадьба без гармоники, – прибавил он, обращаясь к Матюшкину с нецеремонной простотой человека, привычного к мимолетным дорожным знакомствам. – А вы что же… Не знаю, как величать.
Матюшкин назвался и поблагодарил. «Партия, – подумал Федор. – Арестантов ведут». Он вспомнил новые, пахнущие смолой тыны у Сибирского тракта: тракт обстраивали этапными тюрьмами.
Федор накинул полушубок и вышел за ворота станционного двора. Арестантов нигде не было видно: офицер приехал в санях, партия, очевидно, двигалась следом. Но на деревенской «середке» уже толпились бабы, ребятишки, мужики.
И вдруг Федор услышал звон. Он нарастал, близился, переходя в тяжелый, пугающий гул. Забрехавшие было собаки смолкли.
Арестанты шли медленно. На руках и ногах гремели цепи: протяжно и ржаво – ножные железа, с окаянным «дилим-дилим» – кандалы ручные. Войдя в деревню, арестанты запели. Начали первые ряды, высокими голосами:
Мы сидим во неволюшке,
Во неволюшке, тюрьме каменной…
И хриплым рокотом прокатили остальные:
За решетками за железными,
За замками за висячими…
За дверями за дубовыми…
От Бутырского тюремного замка до сибирских каторжных мест певали эту песню арестантские партии, подходя к деревням и селам, посадам и городкам. Как в громе и звоне цепей, так и в песне этой была страшная, цепенящая душу тоска. Но когда вслед за жалостным «распростились мы с отцом, матерью» раздавалось с грозной отрешенностью «со всем родом своим, племенем» – слышались в песне не одна тоска, но и укор кому-то и забубённая отвага.
Шла по деревне партия, пела «Милосердную», принимала крестьянское подаяние, видела в бабьих глазах слезу, в мужичьих – сумрак.
В первых рядах шли ссыльно-каторжные в ручных и ножных кандалах. За ними – ссыльно-поселенцы без ножных оков, но на одной цепи четверо в ряд. За мужчинами – женщины, и тоже скованные по рукам. Шли бунтари-крепостные, солдаты-утеклецы из военных поселений, шли бродяги и воры, заеденные нищетой и вшами. А рядом шагали солдаты-караульщики, кто с ружьем наперевес, кто с ружьем на плече, и у всех – вислый, седой от инея ус, и у всех – тупая скука на дубленых лицах.