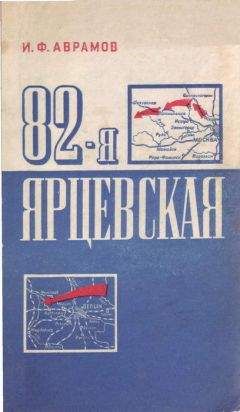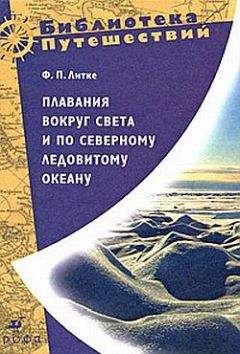Вахтенные матросы водили биноклями по горизонту, кочегары подшуровали в топках, чтобы пилот не проскочил мимо. Волнистыми клубами дым поднимался в безоблачное небо, горячими крупинками сажи осыпал надстройки и палубу.
Воздух был чист и прозрачен.
А в это время в пятидесяти милях от нашей стоянки плутала под колпаком слякотной мглы амфибия, и усталый Кузьмич то снижался к самым торосам, то набирал высоту, продираясь сквозь клейкую сырость тумана.
— Волноваться рано, — успокаивал Куква литкенцев, когда истекли все сроки, а вызванные радисты Рыркарпия и Врангеля ответили, что самолет не показывался. — Кузьмич эти места знает, как свои пять. Наверно, ушел от тумана и пьет чай у Кривдуна в Ванкареме. А там рации нет…
По компасу и указателю скорости самолет подходил к берегу, но отлогие контуры материка стали заметны лишь тогда, когда стрелка альтиметра очертя голову прыгнула вниз. Мгла поредела. Лоскутья тумана стлались на свободной от льда изогнутой луке ванкаремской лагуны. Стряхивая струйки воды с приподнятых крыльев, амфибия ткнулась носом в мокрую гальку.
В торосах Чунотского моря.
— Привет, Федор Кузьмич! — взмахнул ушанкой Кривдун. — Какими судьбами?
— Да вот такими, — пояснил Куканов. — Придется заночевать.
— А, Гергойль-Кай! — заметил он жмурившегося от удовольствия председателя нацсовета. — Жив, старина?
— Верно, верно, Кузьмич, — отвечал чукча, протягивая руку. — А бензину тебе не надо?
Пилот рассмеялся.
— Нет, Гергойль-Кай, не ладо. Займу в баках у Бабушкина. А завтра буду на «Литке».
Но завтра повторилось то же самое. Туман непроницаемой стеной отделил амфибию от ледореза. Только на третьи сутки, после вынужденной посадки на мель, назначив по радио с мыса Шмидта рандеву возле устья Амгуэмы, Куканов добрался до «Литке».
Погрузив самолет на кормовые ростры, мы долго петляли под мысом, пока наткнулись на уязвимое место перемычки. Длинная цепь трещин тянулась вдоль материка. Лавируя переменными ходами, ледорез целую ночь подбирался к трещинам и внезапно, как медведь, караулящий у лунки глупую нерпу, обрушился на них всей силой машин и тяжестью корпуса.
Скрываясь под воду и злобно царапая борта, льды пропустили нас. Отброшенные водоворотом, они медленно сходились за кормой, голубыми языками зализывая рваную рану перемычки. По-прежнему сплошной ледовый барьер упирался торосами в моржевую морду Рыркарпия. Будто и не проходило здесь судно!
Гордо взметнув над рябью разводьев гигантский клюв бушприта, «Литке» птицей скользил на запад…
…Мы темпа не снизим даже на миг,
Не станем. Ребята из лучшей стали.
Мы, если бы надо, себя самих
Прибою огня целиком отдали.
«Да, если б последние гасла угли,
Мы сами бы грудой кардифа легли.
Штормовая вахта,
Шуруй, держись.
Га-арячая жизнь —
Кочегарская жизнь…
(П. ИВАНОВ — кочегар-дальневосточник.)
Котлы весело пели. Пламя розовело в квадратных просветах, палило нестерпимым жаром. Слегка дымили раскаленные брусья колосников. Фиолетовые гребни огненных волн дрожаще вздымались над расплавленной грудой перегорелого кокса, ласково лизали облупленные стенки топок.
Без пяти восемь старшина первой вахты и литкенский парторг Дима Трофимов остановился в дверях машинного вестибюля. Кочегары докуривали. Они сидели на ящиках с консервами, которыми был заставлен вестибюль, и зашнуровывали ботинки.
— Торопитесь, ребята, — предупредил старшина и спустился по скользкому трапу вниз.
В полусумраке машинного отделения он разглядел цифру подогрева воды и удовлетворенно прошел в кормовую кочегарку.
Топки были готовы к сдаче. Шлак, отделенный от кокса, медленно угасал, вспыхивая редкими искрами.
Старшина третьей вахты, старик Карклин, поднялся навстречу.
— Принимай, Дима. Сдаем на совесть.
Блики зарева таяли на его полном пепельно-сером лице. Он шел следом за Трофимовым и вместе с ним проверял заполненные наполовину колонки водомерных стекол. Стрелки манометров, словно сговорясь, вонзили наконечники в среднюю черту между десятой и одиннадцатой атмосферами. Пар был на марке.
— В порядке, — осмотрев кочегарки, сказал Трофимов. — Иди, Карлуша, помойся. Вода нынче пресная, колымская.
Шутя и зубоскаля, кочегары сменялись.
— Хороший ты, парень, Дыма, — проходя, мазнул старшину грязной рукавицей по носу давнишний его приятель Паша Крюков, — только холодной воды зря боишься…
— У, обезьяна! — беззлобно нахлобучил ему на глаза феску Трофимов. — Забыл, как сам скулил, когда затопило носовую кочегарку?
— И как от плит удирали? — добавил Крюков.
— Удерешь, — усмехнулся старшина и полез вдоль стенки выключенного котла к борту, где чернела горловина колодца льял. Громко чавкая, шланг через двойную сетку высасывал из льял лишнюю воду.
— Удерешь, — повторил Трофимов. — Кому охота без ног остаться? Смеешься, Пашка, а тогда забыли о смехе!..
*
…Возвращаясь от американского мыса Хоп, вблизи которого дрейфовал «Челюскин», ледорез встретился с ноябрьским ураганом. Запоздалый рейс! Ни один смельчак не рисковал появляться в такое время в тех широтах. Барометр в штурманской рубке давно предсказывал большую непогоду. Израненный ледовыми битвами под Колымой, глотая воду тысячами пор, освобожденных от заклепок, «Литке» не смог пробиться к «Челюскину». Послав в эфир последнее «прости» зажатому дрейфом пароходу, он спешил в бухту Провидения, где его ждали суда Северо-Восточной экспедиции. Бортовая качка немилосердно трепала валкий ледорез. Крен достигал сорока градусов, и в одну из жутких минут, когда крыло мостика почти касалось всклокоченной мути Берингова моря, взволнованный голос механика глухо зазвучал в переговорной трубке.
— Затоплена носовая кочегарка!
…Разбросав мириады брызг, оглушительно вклинилась в палубу многопудовая железная дверь клинкета, непроницаемой переборкой отрезала носовую кочегарку от всего судна. Брызги пенились пузырьками на горячих стенках котлов и, злобно шипя, испарялись, оставляя на их черном теле следы соленых плевков моря. Три кочегара — Крюков, Трофимов и Кучеряев — остались в темноте, озаренные зловещим пламенем топок.
Где-то наверху гулко бились о корпус волны. Гремели сорванные с гнезд чугунные плиты настила.
Кочегары по грудь в студеной воде, пробирались к запасному выходу.
Тонна металла каталась по кочегарке.