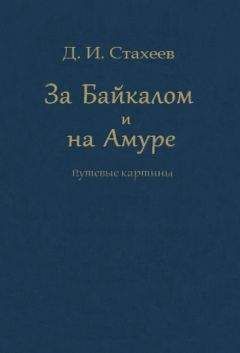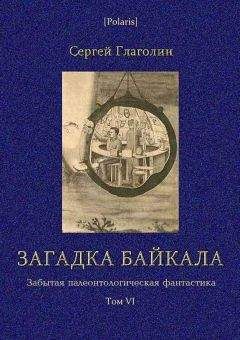Сибирский рысак идет без всякого оружия, есть при нем только маленький нож, да и то не всегда; на плечах болтается небольшой тощий мешочек, в котором хранится ни более ни менее, как лоскут какой-нибудь тряпки, обрывок кожи и т. п.
Несмотря на 30° мороз, рысак бежит зимою одетый совершенно по-летнему: на нем коротенькое полукафтанье, холщовые штанишки, обувь изорвана и едва держится на ногах; перемерзнувшие, побелевшие от мороза пальцы выглядывают в дыры башмаков; на голове какая-нибудь блинообразная шапка, найденная, может быть, где-нибудь на дороге; шея открыта и встречный ветер прямо ударяет в горло и грудь.
Бежит рысак день, месяц, целое лето и в конце концов попадается опять в руки правосудия; проходит зима и с первой весной он снова бежит, снова голодает, подвергается всевозможным опасностям и в конце концов бо́льшая часть из них попадает в тюрьму, где и остается до нового побега.
И проходят таким образом многие годы полуголодного, нечеловеческого существования. Опасность в непроходимом сибирском лесу от лютого зверя, опасность от болезни, от голодной смерти, опасность от переправ через реку, наконец, опасность от человека, который может лишить свободы рысака и передать его в руки начальства. Везде опасности! Из-за чего же человек отдает себя на такое страшное существование? Какие надежды его поддерживают? Какие цели им руководят? Нет у него никаких надежд, никаких целей, кроме желания свободы, хотя эта голодная и холодная свобода в тысячу раз хуже всякой неволи. А все-таки люди меняют сытую неволю на голодную свободу!
Редкий из рысаков, быть может, один из тысячи сумеет выбраться из Сибири в Россию и приютиться где-нибудь с паспортом человека, случайно ему встретившегося на дороге. Познакомится он сначала с этим несчастным, порасспросит его о месте жительства, о родных, о знакомых, потом убьет его где-нибудь в темном лесу, и пойдет с его паспортом, куда пожелает, удаляясь подальше от той стороны, где живут родные убитого.
Бывали иногда случаи, что крестьяне укрывали у себя рысаков по нескольку лет, пользуясь их бесплатной работой.
Рассказывали такие случаи, что крестьянин, видя хорошее поведение рысака, покупал у волостного писаря билет какого-нибудь умершего поселенца, и рысак числился под его именем; так в одном селении, при какой-то ревизии, оказался поселенец двести пятидесяти лет от роду, — это, значит, под именем умершего числилось по книгам едва ли не пятое лицо.
Но бо́льшая часть рысаков, как я сказал выше, всю свою жизнь проводят только в том, что бегут по Сибири, попадают в тюрьму, опять убегают и опять попадают до нового побега.
Часто они сами приходят в тюремный замок и выдают себя и эта самовольная выдача бывает всегда зимою, когда уж нет никаких средств спастись от мороза.
По сибирским деревням искони существует обычай выставлять на ночь за окна молоко, хлеб, иногда и мясо для несчастных.
— Для чего вы это делаете? — спросит иногда проезжающий.
— А для несчастных, батюшка, они ведь тоже люди: пить, есть хотят.
— А вы их не боитесь?
— Нет, ничего… Оно правда, что другой раз и подумаешь, как бы мол они красного петуха не подпустили, ну и поставишь крыночку за окно, все же безопаснее.
— Так, следовательно, вы только из боязни ставите за окно пищу?
— Нет, пошто из боязни: все же они несчастные… Голодным и Господь велит пищу давать!
Но этой милостыней, отдаваемой и из жалости, и из боязни, рысаки не всегда пользуются, только храбрые из них заходят в деревню, а остальные предпочитают голодать, кормиться травой, древесной корой, чем заходить в деревню и рисковать своей свободой.
Если число бегущих рысаков порядочно, то есть человек 10–15, то, вооружившись хорошими дубинами, они темной ночью входят в деревню, быстро выпивают молоко, забирают пищу и, оглядываясь, спешат убраться поскорее в лес…
У меня был один знакомый из рысаков, водворенный на жительство около Читы. Он шестнадцать раз был пойман и шестнадцать раз его наказывали. (В то время еще существовали плети).
Когда я познакомился с ним, он был уже 70 лет.
— Что же, дедушка, — спрашивал я, — заставляло тебя бегать?
— Стар стал теперь, не могу уж больше, — грустно говорил старик, сидя на крылечке почтового двора.
— Я говорю, что тебя заставляло бегать?
— А что заставляло? — Все на родину хотел пробраться, хоть бы одним глазком-то на нее, матушку, посмотреть, хоть бы так, издали…
— И не посмотрел?
— Нет, не посмотрел; раз было до города Перми добрался…
Старик замолчал, вздохнул и видимо отдался грустным воспоминаниям.
— Ну что же, дедушка? Добрался, говоришь, до Перми, — отчего же дальше не шел?
Старик грустно поднял голову, как будто очнулся от забытья и сказал:
— Да зима уж больно люта была, невтерпеж стало, пошел в тюрьму, говорю: непомнящий родства…
— И что же?
— Вздули и опять сюда переслали.
— С тех пор больше не бегал?
— Нет, еще раз около города Тобольскова, тоже далеко отсюда, там меня поймали; народ-то там больно избалованный…
— Как избалованный?
— Да так, — нашего брата беглова ловит.
— Ну, еще докуда доходил?
— А еще-то, все около Иркутскова да Томскова, тут все попадался.
— Зачем же ты, дедушка, бегал, когда видел, что нельзя выбраться?
— Да так уж, после, бегал… Скучно было!
— Голодать же хуже?
— Может и хуже, да уж так… тянет…
— Куда же тянет-то?
— Эх, родимой ты мой! Весна-то как наступит, сердце затомится, заноет, места не находишь, только и на уме, как бы теперь в лес… знакомые тропинки разные вспомнятся, ручейки… Холод и голод, все забудешь и спишь и видишь лес, ну и убежишь… А то и на ум нейдет, что опять спину вздуют…
— Теперь уж больше не хочешь бежать?
Старик поднял на меня свои истомленные ввалившиеся глаза, посмотрел, помолчал, вздохнул, глубоко вздохнул и заплакал, тихо-тихо заплакал.
— Не плачь, дедушка… выпей вот лучше винца, — предложил я.
Старик протянул руку за рюмкой, выпил и показал на ноги.
— Ноги-то вот стары стали, не хотят служить, — проговорил он, вздыхая.
— Ужели бы ты опять побежал?
— Побежал бы!
И старик замигал глазами, стараясь удержать слезы…
Если на забайкальской тропе были устроены кордоны для поимки беглых, то и это, во всяком случае, не остановит их: они отыщут себе другую дорогу, — пойдут на высокие гольцы Хамар-Дабана, (самая высочайшая и крутая гора по кругобайкальской дороге), пойдут на Тунку, потом на речку Иркут. Кордоны могут только затруднить их путь, а пути они себе все-таки найдут. Они прокрадутся везде, где только может пройти нога человека. Бывали такие случаи, что рысаки проходили по южной стороне Саянских гор и оттуда выходили в Западную Сибирь, в Томскую губернию.