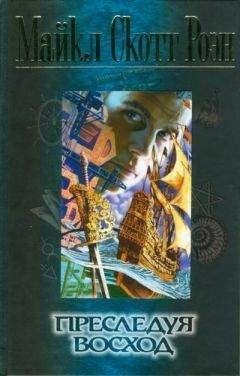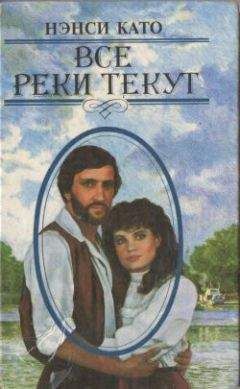– О, простите! Я принял вас за француженку. Что скажете, дорогая? Как будет лучше, по-вашему, слева или справа от стола?
Густаво (его звали Густаво) пристально глядел на меня, а я вперила взор в растение, каким-то образом поняв, что вопрос не праздный и от моего ответа напрямую зависит, как сложатся в будущем наши отношения с владельцем самого изумительного дома в Санта-Терезе.
Я осмотрела растение, прошлась по комнате, прикинула, как будет падать свет, а потом сообщила свое решение: лучше поставить его слева. Паулу передвинул кадку, и я попросила сместить ее дюймов на двадцать.
– Ренессанс? – спросила я с французским прононсом, но он поправил, сказав, что это барокко, и я заподозрила, что на самом деле он понимает в этом не больше моего.
Густаво уточнил, уверена ли я, что растение не нужно переставить на правую сторону, и я с королевским величием махнула рукой, давая понять, что уверена. Разумеется, я блефовала.
Вечером того же дня я вернулась в Каса Амарела на ужин – только на сей раз по приглашению. Мы обсуждали антиквариат, Европу и австралийскую скваттерократию.[25] Я прихватила с собой к ужину австралийского вина («Джейкобс Крик» по 40 долларов за бутылку), и Густаво смаковал его, преувеличенно рассыпаясь в благодарностях. «Божественный напиток!» – восклицал он, а потом предал анафеме кошмарные бразильские вина.
Я улыбалась. Мне не было ровно никакого дела до вина. Сейчас я могла думать лишь об одном: о той громадной пустующей комнате китайской принцессы.
Я тактично перевела разговор, заметив вскользь, что он живет в таком большом пустом доме один. Густаво учтиво ответил на это, что иногда пускает в комнаты знакомых и друзей, а также, время от времени, «тех, кто ему интересен».
После еще одного ужина-разведки я явно перешла в эту последнюю категорию и попросила убежища в Каса Амарела на Руа Жоаким Муртину в Санта-Терезе. Он согласился, что я поживу у него месяц, и мы чокнулись в знак заключения сделки.
– Подойдет ли вам китайская комната, душка?
– Подойдет, – ответила я, чуть не плача от восторга и благодарности. – Она мне подойдет.
Я перебиралась ночью, аки тать, протащив под покровом темноты свой Ю-Би в комнату принцессы и повесив свои три жалкие перемены одежды в шкаф, внутри которого впору было прогуливаться. Карине я, помявшись, объяснила, что хотя «Хостел Рио» мне очень нравится, но мне уже двадцать восемь, и в этом преклонном возрасте уже трудновато выносить соседей по комнате. Хочется побыть одной.
– Мне вообще-то казалось, что ты собралась остановиться всего на несколько дней, – подколола меня Карина с хитренькой усмешкой.
– Да мне больше никуда не хочется, – радостно ответила я. – Поближе познакомлюсь с Санта-Терезой, а если бы ты видела мою новую комнату…
Она ласково улыбнулась:
– Нашла что-то недорогое и недалеко?
– Да, – закивала я. – Прямо в двух шагах отсюда.
Вечером, когда Карина подвезла меня до нового места, лицо у нее вытянулось, как если бы она внезапно узнала, что ее подружка оказалась принцессой Монако.
– Подруга, как только сможешь, давай ударим по коктейлям, – крикнула я, вытягивая из багажника Ю-Би и уже чувствуя себя наследницей виллы в Сан-Тропе. Сидящая за рулем Карина, не отрывая глаз от желтого дома, только удивленно кивнула.
Поднявшись наверх, я первым делом запихнула ковбойские сапоги и шляпу в пластиковый пакет, сунула его вглубь шкафа и начала готовиться к ужину. К счастью, на дне Ю-Би обнаружилось маленькое черное платье, которое я сумела утаить от придирчивых глаз Стефани и Скай, когда упаковывалась в Баттерси. Десять лет я таскала это маленькое черное платье с собой, на случай, если меня – как будто одну из девушек Бонда, только что выбравшуюся из джунглей, – вдруг пригласят на ужин во дворец магараджи в Индии или, скажем, на коктейль в уединенный загородный особняк европейского графа. Ни разу, ни в одном из путешествий, оно мне не пригодилось – я все время щеголяла в красной хлопчатобумажной рубахе и донельзя выношенных джинсах «Ливайс» (мы со Стефани окрестили их «урыльником» из-за одного приключения, которое им пришлось пережить в долине Меконга во Вьетнаме). Но все это было раньше, до переезда в Каса Амарело.
Густаво, владелец дома, был великолепен – настоящий аристократ, в котором удачно сочетались португальская, немецкая и аргентинская кровь. До переезда в Рио он держал рестораны в Сан-Паулу. По всему дому тут и там встречались фотографии в элегантных рамках: он и другие загорелые красивые люди на яхтах в Греции, в купальных костюмах шестидесятых или семидесятых годов, или он в меховой шапке стоит с лыжами на склоне горы в Сан-Морице – ну и другие подобные картинки рая для богатых.
Для начала, когда мы вместе завтракали за столом, уставленным фруктовыми соками, сырами и ветчиной, Густаво старался вытянуть у меня скандальные признания, касающиеся моего прошлого. Вновь возник неизбежный вопрос о том, чего стоят в постели австралийские мужчины. Густаво, по крайней мере, отозвался о моих соотечественниках не так уничижительно, заметив благосклонно, что смотрел австралийский футбол на бразильском ТВ и ему понравилось. Он задавал вопросы о семье и антиквариате, видимо, с целью определить мою социальную принадлежность, я же сообщала о себе только правду, голую и неприукрашенную.
Несмотря на первый всплеск восторга, Кьяра сразу же невзлюбила Каса Амарела. Как-то вечером после моего переезда она зашла меня проведать, осмотрела салон и произнесла:
– Как все это вульгарно! – После чего резко развернулась и ушла.
Густаво помолчал оскорбленно, потом отвел меня в сторону и спросил:
– Что это за ужасная женщина-хиппи?
Понятно, что их отношения после этого были натянутыми. Я раз-другой устраивала ужин, во время которого итальянка и бразилец сидели за столом вместе, однако разговор не клеился, и напряжение не проходило. Кьяра не могла смириться с «бестактной демонстрацией богатства», а Густаво были определенно не по душе ее буйные растрепанные волосы. Взаимная неприязнь заставляла обоих при встрече пускаться в крайности: Густаво в присутствии Кьяры позволял себе провокационно-снобистские высказывания, а Кьяра не оставалась в долгу и из-за отсутствия книг в доме в глаза назвала Густаво «писклявым лицемером». Кое-как мне удалось разрядить обстановку, заявив, что здесь, по крайней мере, никто и не принадлежит к пресловутому (и жуткому) среднему классу. Ну, то есть кроме меня.
Для такого общительного человека, как Густаво, я представляла интерес, как новая книга, да еще и на непонятном языке. Он был оптимистом и жизнелюбом с невероятно богатой фантазией, к тому же не обзавелся детьми, которые разочаровали бы его.