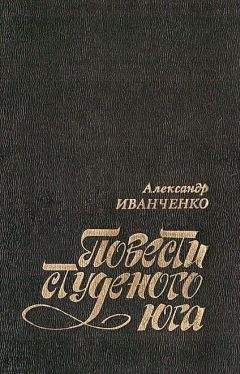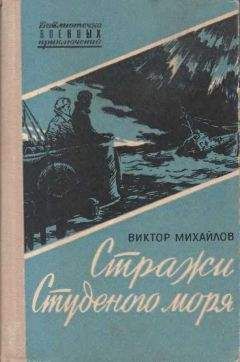Короче говоря, через три с половиной века некогда осужденный на смертную казнь пират был полностью оправдан и восстановлен во всех гражданских правах. Этим и решил воспользоваться Дэвис, теперешний, узнав о реабилитации своего предка из газет.
Предъявив правительству Великобритании две тетради дневников Терезы де Бурже, старик доказал, что является прямым потомком знаменитого Джереми, и вместе с тем дал лишнее подтверждение, что Фолкленды действительно были открыты англичанами.
Британскому правительству было выгодно поселить Дэвиса на Фолклендах (живой потомок первооткрывателя), и оно по дешевке продало ему необитаемый в ту пору Нью-Айленд.
У Джека и Агнес здесь родились Энни и Редмонд. И вот теперь, когда долгожданные внуки выросли, в семью Дэвисов пришло новое горе.
От матери Редмонд и Энни слышали рассказы о Большой земле, о том, неизвестном юным Дэвисам, мире, где живут тысячи и миллионы таких же, как они, ребят. Мать научила их грамоте, и они зачитывались теми немногими книгами, которые Агнес привезла с собой на остров. Жизнь на Нью-Айленде стала для них невыносимой. Они требовали от отца и деда покинуть осточертевший им остров и ехать куда угодно, лишь бы там были люди. Но слушать их дед, а он главный в семье, не желал.
Дважды в год к Дэвисам приходил рефрижератор из Монтевидео, забирая шерсть и мясо, оставляя заказанные товары и почту — комплекты журнала «Иллюстрированные лондонские новости». Редмонд и Энни задумали бежать на этом судне в Уругвай. Но у них ничего не вышло. Подвела Энни, влюбившись в матроса, который соблазнил ее и сразу же стал над ней насмехаться. Разгневанный отец девушки прогнал с острова всю команду рефрижератора.
Спустя девять месяцев Энни родила дочь и успокоилась, Редмонд же оставаться на острове не хотел ни за что. Уехать ему не позволили, и он перерезал себе вены.
Джону, когда я с ними встречался, было сто три года, Джеку — семьдесят четыре. Редмонд — единственный продолжатель фамилии. Когда Джон поселился на Нью-Айленде, он думал о внуках, о будущем поколении Дэвисов. Именно стремление сохранить род Дэвисов, а не только забота о стареющем Джеке, дало ему силы дьявольским трудом освоить суровый субантарктический остров. Теперь потерять Редмонда для него значило потерять все, во имя чего он жил и трудился.
Отчаянный поступок внука заставил старика переоценить, заново переосмыслить все, что до сих пор казалось ему бесспорным. Помню, на прощанье он сказал мне:
— Я был глуп, Алек, увел свою семью из мира людей, чтобы спрятаться от их безумия, но люди должны жить среди людей, жизни без жизни не бывает. Да, Алек, я это понял. — Он протянул мне глиняную индейскую трубку — трубку Джереми: — Возьми, Алек, ты подарил нам свою кровь и теперь на эту трубку имеешь право…
По рытвинам его морщин стекали слезы — слезы зябнущего старика. Выцветшие от долгих лет белесые глаза смотрели с угрюмой тоской.
…Трубка пирата — одна из самых дорогих моих реликвий. Всякий раз, когда беру ее в руки, снова вижу себя на Фолклендах, у Дэвисов. Там ли они еще, не знаю. Старик говорил, что уедут. К людям…
Лошади шли неровно и тряско. Без седла держаться на костистой хребтине коняги было мучением, но, как утверждал Мартинсен, ни одна фолклендская лошадь к седлу не приучена.
Пытаясь как-то приноровиться к непривычному путешествию, я уже не рад был, что дал себя уговорить на эту поездку. После первого солнечного дня погода на Восточном Фолкленде — самом большом острове Фолклендского архипелага — установилась мерзкая. Шквальные ветры и косой секущий дождь. Ненадолго стихало, но тогда валил мокрый серый снег. Даже в автомобиле, если бы он мог тут пройти, ехать по голым камням и зыбким торфяникам — удовольствие невеликое. И неловко было перед доктором Слэсаром — карантинным врачом, который встречал наш корабль в Порт-Стэнли — главном фолклендском порту и единственном городе архипелага. Потом я был у него в гостях и узнал, что он изучает русский язык. Слэсар рассказывал мне о лондонских толстосумах, приезжающих иногда на Фолкленды ради экзотической охоты на диких быков. Рассказывая, он иронически улыбался, но за легкой иронией чувствовалось презрение. Я вполне разделял его мнение, а теперь сам заражался той же пагубной страстью.
Мартинсен, не слышавший наших разговоров о заезжих миллионерах, мою нерешительность истолковал по-своему.
— Говорю вам, не пожалеете, — сказал он убежденно. — Маленько помокнем, однако интерес обещаю.
Я не устоял и согласился, пошел к губернатору просить разрешения на право охоты. Собственно, меня не столько интересовала охота, как возможность подольше побыть с Мартинсеном.
Мы познакомились у Слэсар а. Представляя его, доктор с улыбкой сказал:
— Я думать, вы получать приятный сюрприз.
Оказалось, степенный старый норвежец второй на Фолклендах знаток русского языка. И знает его куда совершеннее Слэсара. Певуче окая, неторопливо округляет слова, как истый помор.
На далеком русском Беломорье Мартинсен родился и вырос. Расстался с ним сорок лет назад, но языка не забыл.
Здесь, на задворках планеты, рядом с «худшей из окраин мира» — Огненной Землей, где русские люди, судя по всему, никогда не бывали, нашего поморского говора для меня было достаточно, чтобы сразу проникнуться к старику симпатией. И внешность его понравилась. Высокий, жилистый, с мощными, как у пахаря, руками. Побуревшее, обтянутое дубленой кожей лицо продолговато, с коротко подстриженной, некогда рыжей, но уже сильно поседевшей бородой. Крупный прямой нос и спрятанные под нависшими широкими бровями глаза могли бы придать этому лицу угрюмую суровость, но в прозрачной голубизне глаз светится лукавая стариковская мудрость, озаряющая его улыбку спокойным добродушием. Только узкая и суховатая нижняя губа говорит, что за видимым добродушием кроется твердый характер и умение быть хладнокровным.
На охоту он ехал в сером суконном кепи, зеленом брезентовом плаще, кожаных брюках и огромных сапожищах. Я смотрел на него и радовался. Люблю не сломленных житейскими бурями стариков. Общаясь с ними, всегда чувствуешь тихое счастье умиротворения. Даже в этой унылой пустоши.
Должно быть, весь Восточный Фолкленд сложен из сизовато-белого кварцита и серого базальта, на которых растут только мхи, а на мхах — вереск, напоминающий заячью капусту, лопух, разбросанные там и сям бурые купы узколистной осоки да жесткая, как осенний порей, трава.
От центральной части острова, где над холмистой равниной на несколько сот метров возвышается разломанный конус горы Асборн, в разные стороны тянутся похожие на высохшие русла рек застывшие каменные потоки. И удивительно! — нигде нет валунов. Камни угловаты, как будто неведомая конвульсия природы раздробила их только вчера. Вода не обтачивает обломки, она журчит где-то глубоко под ними.