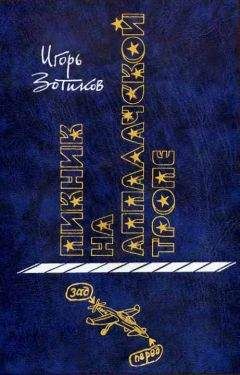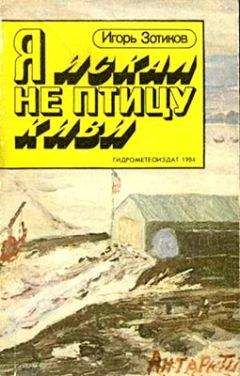— Вы доктор Зотиков? Сэр, меня прислал мой командир. Он хочет срочно видеть вас. Не могли бы вы полететь со мной в штаб воздушных операций?
Я не удивился его приходу. Ведь все авиационные и морские операции по обеспечению американских исследовательских работ в Антарктиде осуществляются военными силами США. Использование военных для поддержки научных исследований разрешено специальным антарктическим договором.
В штабе я застал несколько старших офицеров, которых знал раньше, и моего приятеля — советского метеоролога Эдуарда Лысакова, который приехал сюда зимовать в качестве обменного ученого, как когда-то и я. Их командир сказал мне:
— Игор, я уже сказал Эду и хочу сообщить тебе. Час назад мы получили телеграмму с главной советской антарктической станции Молодежная. Там потерпел аварию советский самолет. Имеются раненые. Руководство экспедиции просит нас оказать помощь и прислать наш самолет, чтобы забрать и вывезти в госпиталь Новой Зеландии пострадавших. Подписал ее начальник экспедиции Короткевич, я уже дал команду срочно готовить машину, но хочу посоветоваться с вами. Что за человек Короткевич? Почему так лаконична телеграмма? Неизвестно ни сколько пострадавших, ни как велики их повреждения. Может, там просто кто-то сломал ногу или руку. Ведь полет в Молодежную для нас — это риск и большие затраты. Что ты думаешь об этом? Я выслушал Эда Лысакова. Теперь что скажешь ты?
Я объяснил ему наше отношение к просьбам о помощи от иностранцев и сказал, что если начальник экспедиции на такую просьбу пошел — значит, тяжесть повреждений у пострадавших огромна и отправка их с Молодежной на американском самолете является единственной возможностью спасти их жизнь.
— Я так и думал. И Эд сказал примерно то же. Итак, я правильно сделал, дав сразу команду готовить срочно самолет, не дожидаясь разрешения на это со стороны моего командования. Ведь по инструкции я должен ждать сначала этого разрешения. Ну, а теперь уже скоро машина будет готова. Я сам поведу ее. Заберем с собой врачей, все необходимое для скорой помощи. Эд Лысаков полетит с нашим самолетом. Ты, Игор, будешь ликвидировать языковой барьер во время переговоров с Молодежной здесь, в штабе.
Через несколько часов тяжелый четырехмоторный самолет «Геркулес С-130» с врачом, двумя его помощниками и Эдом Лысаковым вылетел в далекий путь. А я остался сидеть с радистом в штабе, помогая осуществлять связь между Мак-Мердо, Молодежной и затерянным где-то в пустынном антарктическом небе самолетом.
С момента вылета самолета мы держали непрерывный радиоконтакт с Молодежной. Но если обычно каждая телеграмма из Молодежной переводилась там сначала на английский язык — в Мак-Мердо читать по-русски никто не умел, — то сейчас радисты Молодежной передавали все прямо по-русски и телетайп печатал русский текст латинскими буквами. А контакт такой был очень нужен. Необходимо сообщить на самолет сведения об аэродроме Молодежной, его приводном маяке, возможностях дозаправки, сведения о больных… А сведения эти были не обнадеживающими. Сначала мы узнали, что шесть тяжело пострадавших полярников ожидают самолета. А потом, когда самолет был уже в воздухе, число это в одной из радиограмм с Молодежной уменьшилось до пяти, и мы с грустью решили, что кто-то умер, не дождавшись самолета: ведь резко поправиться за несколько часов невозможно. К счастью, в этот раз мы ошиблись. Много позднее, уже от самого Короткевича я узнал, что шестым в список на эвакуацию включили его самого. Но он отказался улететь и приказал вычеркнуть себя из списка.
Много-много часов просидел я с щуплым молодым человеком в очках, с редкими прилизанными волосами, в зеленой, свежевыстиранной, но неглаженой форменной рубашке и таких же брюках, подпоясанных черным матерчатым ремнем с блестящей металлической бляхой. Над нагрудным карманом рубашки крупными черными буквами было выведено: «Ю. С. Нэви», что значит по-русски: «ВМС США». Все вокруг были одеты так же. Только маленькие блестящие значки на уголках воротников этих рубашек были разные. У моего молодого человека в очках на воротничке были скромные три черных шеврона матроса — специалиста первого класса, у самого старшего — блестящие, расправившие крылья «птицы», как их называют американцы: знаки различия полковников и капитанов первого ранга. Я же выделялся среди зеленых рубашек своей ярко-красной шерстяной курткой — униформой американских ученых.
Я сидел вдвоем с моим матросом в маленькой комнатке без окон, в центре которой стоял видавший виды аппарат телетайпа. Рядом — простой раскладной стол, заваленный обрывками широкой, почему-то желтой телетайпной ленты, простая плетенная из проволоки корзина для мусора, заполненная обрывками такой же бумаги.
Телетайп время от времени неуверенно вздрагивал, начиная конвульсивно печатать текст передаваемой далеким русским радистом депеши. Я хватал оторванный для меня матросом кусок ленты, читал про себя, пытаясь понять русские слова, написанные латинскими буквами, потом на пустом месте листка писал текст этой телеграммы по-английски. Кто-нибудь из офицеров, работавших в соседней комнате, вбегал на звук работающего телетайпа, хватал мое сообщение и убегал обратно.
Самой волнующей была минута, когда самолет и Молодежная передали почти одновременно, что до посадки осталось минут десять, и замолчали. Летчики, радисты, синоптики — все, кто был в штабе, столпились у телетайпа, лениво печатавшего какую-то абракадабру букв и цифр. Казалось, прошло несколько часов. И вдруг аппарат начал стрелять короткими очередями недлинного сообщения. Мой матрос передал мне ленту. Я смотрел на ленту, все — на меня, а я молчал, не понимая, что написано. Потом наконец дошло. Далекий русский радист, подписавшийся на этот раз просто своим именем «Питер», передал по-английски: «Самолет сел. Все хорошо». «Спасибо, Петя», — прошептали губы. Я улыбнулся, и все по улыбке поняли, что все хорошо, и тоже облегченно заулыбались. Я отдал телеграмму старшему, и мы пошли в соседнюю комнату пить кофе. А мой молоденький матрос-радист — его звали Дан — сказал мне радостно и застенчиво, но победно улыбаясь, как будто это он только что приземлился там, на далекой Молодежной:
— Вы знаете, сэр, ради одного того, что я сегодня пережил, стоило завербоваться в Нэви. Я просто счастлив. Я не забуду этих часов до конца жизни…
Но теперь, когда напряжение немного прошло, я обратил внимание, что в нашей комнате нет одного маленького пухленького человека с прилизанными волосами. С обеих сторон воротничка его рубашки было по одному блестящему прямоугольнику — знаку различия младшего лейтенанта. Он был синоптиком, и встречался я с ним в основном в кают-компании во время ужина, и разговор был обычно неприятным. Этот человек не любил мою страну и не скрывал этого, все время старался переводить любой разговор со мной на преследование религии в СССР. Для меня было ясно, почему его нет сегодня здесь, с нами. Ну нет так нет, разве не видел я таких недоброжелателей раньше? Но сегодня я слишком переволновался, устал и не сдержался: