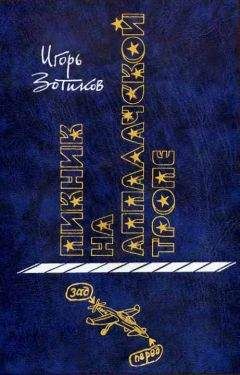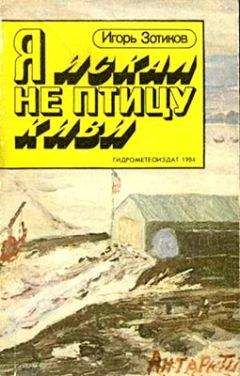— А где наш младший лейтенант, синоптик? — спросил я с нескрываемой иронией.
— Не судите строго, он странный человек, — сказал его начальник смущенно. — Мы ему разрешили сегодня не работать. Он ведь весь день стоит на коленях в церкви и молится, чтобы удалась операция спасения и все раненые русские остались бы живы, выздоровели и вернулись к своим близким.
По-видимому, я все-таки слишком устал за последнее время, стал слишком чувствительным, поэтому успел только отвернуться от говорившего, зажмурить глаза. А дальше бороться было невозможно. Слезы текли сами, и я едва успевал вытирать их тыльными сторонами рук.
Через час самолет вылетел в обратный путь. На нем находились пять пострадавших полярников и вылетевший с ними советский врач. К утру стало ясно, что раны у них настолько серьезны, что их надо сразу отправить в Новую Зеландию, если только они доживут до нее. Поэтому самолет только дозаправится в Мак-Мердо и полетит дальше.
И вот усталый самолет наконец садится. Начальник станции спрашивает меня, не смогу ли я прервать свои научные работы и полететь с соотечественниками в Новую Зеландию. Ведь оказалось, что советский врач на борту не говорит по-английски, а Эдуард измотан до предела, да к тому же нужен здесь.
— Конечно, смогу.
Я на минуту забежал дохлой, переоделся полегче и на вертолете был доставлен на аэродром.
Там все уже суетились вокруг огромного заиндевелого четырехмоторного самолета с красным хвостом и белыми звездами на крыльях и фюзеляже. Несколько толстых шлангов тянулись к различным его местам. Шла заправка топливом. В самолет догружалось необходимое медицинское оборудование, продовольствие. Ведь на борту вместе с ранеными нас будет почти пятнадцать человек, а лететь еще около десяти часов. Вот уже стал, меняться экипаж, появилась новая смена врачей, только командир отказался покинуть машину, заявив, что у него еще есть силы, чтобы довести самолет до Новой Зеландии, и он покинет его только с последним из русских.
Аэродром жил своей обычной жизнью, всем хватало работы, и никто не был лишним. И в этом его порядке резко выделялась группа, человек двадцать. Сбившись в кучку, подняв отороченные волчьим мехом капюшоны своих зеленых форменных курток, они подпрыгивали, стараясь согреться, толкали друг друга, поглядывая на наш самолет. Им явно нечего было делать.
— Кто это? — спросил я мельком пилота вертолета.
— О, это свободные от вахт матросы и солдаты. Они уже давно толпятся здесь, предлагают добровольно сдать свою кровь, плазму, если будет нужно, чтобы как-то помочь этим русским.
И опять комок подступил к горлу. Как мы хотим быть хорошими, добрыми, помогать друг другу в беде, когда правительства наших стран дают нам малейшую возможность сделать это.
В темной с улицы, как бы положенной набок бочке — фюзеляже самолета, — шла суета пересменки. Усталый американский врач и его помощник рассказывали сменяющим их коллегам о пациентах. Каким-то образом они уже успели исписать о них кипу бумаг. Здесь же был и бледный от бессонницы человек в темной одежде советской антарктической экспедиции. Нас представили друг другу. Как-то сразу мы перешли с ним на «ты», как братья.
Двое суток с момента падения самолета, без сна, без отдыха, Лева оказывал помощь раненым, перевязывал их, лечил, а скорее, старался удержать их живыми. О его гипсовых повязках и методах лечения я услышал много хороших слов от американского врача за время полета. А сейчас Лева просто сказал мне:
— Слушай, вроде новые врачи уже в курсе того, что случилось с каждым из раненых. Если я тебе не нужен, пойду в хвост, посплю там часок на чехлах. Если что — буди сразу. Давай ребятам пить сколько хотят. Время от времени ставь им утки. Не обращай внимания на бред тех, кто бредит. И следи все время за тихими, особенно вон за тем. Это бортрадист разбившегося самолета, его зовут Гариб, Гариб Узикаев. У него переломы многих частей черепа, черепно-мозговая травма, перелом костей грудной клетки. Он может умереть в любой момент… Правда, и другие тоже… — добавил Лева и поплелся в хвост самолета, еле передвигая ноги в тяжелых сапогах.
Весь правый борт самолета был превращен в походный госпиталь. В два яруса поверх переплетенья разноцветных труб, связок проводов и каких-то молчаливых, шипящих или визжащих на разные голоса аппаратов была натянута защитная матерчатая сетка, а поверх нее притянуты ремнями вертикальные стойки, на которые намертво были прикручены широкие зеленые, по виду военные, носилки. Трое носилок, одни за другими, на высоте матраса обычной кровати, и еще двое носилок, тоже одни за другими, образовывали второй этаж где-то на высоте груди стоящего человека.
Самолет был военный, и все внутри его было тоже какое-то военно-походное. Поэтому ряды носилок не вызывали дисгармонии в интерьере самолета. И все же дисгармония была, кричала бедой. Она шла от контраста военных носилок с такими «гражданскими» белыми с синими полосами слишком широкими матрасами, которые порой сползали в некоторых местах с носилок, от еще более широких с бурыми пятнами крови простыней, свисающих углами с носилок. А поверх одеял были крепко, профессионально привязаны к носилкам широкими серыми ремнями люди.
Наверное, догадался я, ребят вносили в самолет прямо с их постелями: матрасами и одеялами. Так они меньше травмировались. Ну а ремни, по-видимому, нужны, ведь трое из раненых — обросшие, с запекшимися искусанными и сухими губами — не открывали глаз, были без сознания, опутанные паутиной каких-то трубочек. Остальные двое хоть и не спали, но их бодрствование вряд ли приносило им облегчение.
— Развяжите меня! Зачем вы меня украли и везете в Японию? Откройте иллюминатор, мне душно! — кричал один.
Я знал, что у этого человека, как, впрочем, и у всех, помимо переломов и потери крови еще и тяжелое сотрясение мозга, и старался успокоить его:
— Все идет хорошо, ты был болен, и сейчас тебя везут в госпиталь. Ты на американском самолете…
Больной понял, что говорят по-русски, зашептал горячо:
— Послушай, нас же обманом хотят увезти на иностранном траулере, который уходит куда-то на север, а наше судно, наш «Михаил Сомов», — вот оно. И оно идет обратно в Антарктику. Мне так нужно вернуться в. Антарктику. Помоги мне, развяжи, открой иллюминатор, и мы убежим вместе. Ну, пожалуйста, развяжи.
Подошел американский врач. Глаза строгие, серьезные, а взгляд какой-то отцовский, что ли, хоть и молодой еще этот доктор. Почему у него такой взгляд? Это потому, что он, наверное, тоже очень хочет помочь. Как я тогда Джеку.
— О чем он говорит? Что просит?