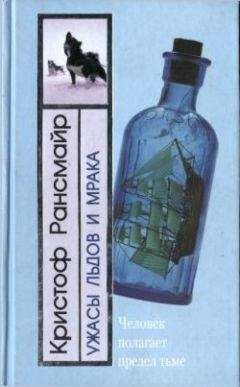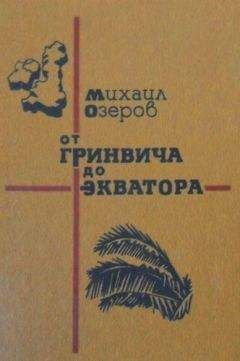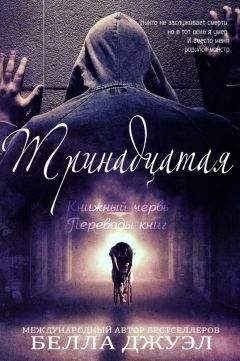Мадзини снял комнату у вдовы мастера-каменотеса, эпизодически подрабатывал шофером в транспортно-экспедиционной фирме, где один из друзей родни служил бухгалтером, позднее попутно привозил дальневосточный антиквариат – безделушки из фарфора, нефрита и слоновой кости, за которые платили черным налом, и много читал. Каменотесова вдова целыми днями сидела за неуклюжей вязальной машиной, предлагала жильцу весьма диковинные шерстяные одеяния и нередко часами смотрела в окно на непроданные мужнины надгробия, до сих пор хранившиеся на задворках. Камень порос мхом.
Я познакомился с Йозефом Мадзини дома у Анны Корет, владелицы книжного магазина; написав этнографическую работу об одном из самоедских племен сибирского побережья Северного Ледовитого океана, эта женщина вошла в университетские круги, а затем специализировала свой магазин на этноисторической литературе и путевых записках. В своей темной, просторной венской квартире на Рауэнштайнгассе хозяйка магазина от случая к случаю давала ужины для солидной клиентуры. В такие вечера много рассуждали о рукописях, о редких изданиях и пили дешевое итальянское вино. На Рауэнштайнгассе можно было узнать самые невероятные подробности о возникновении различных книг, о годах публикации, об оформлении и переплетах, но – почти ничего о людях, читавших такие книги. Мадзини – однажды Анна Корет пригласила его на такое вечернее собрание и представила как своего Йозефа – был исключением. Он много говорил о себе. Причем на изысканном немецком, сразу выдававшем свое эмигрантское происхождение. К примеру, еще новичком на Рауэнштайнгассе Мадзини употреблял старомодные слова вроде «синематограф», говорил «на сей конец», "высокие помыслы», «следственно» или «телефонировать».
В ту пору я превратно истолковал его свободный от акцента лексикон как составную часть нарочито претенциозной беседы – тем более что и предметы, о которых он говорил, в кружке Анны Корет казались странными и чудаковатыми. Он, Говорил Мадзини, как бы заново набрасывает прошлое. Придумывает истории, изобретает ход действия и события, записывает все это, а после проверяет, нет ли в далеком или недавнем прошлом каких-нибудь реальных предшественников либо соответствий для персонажей его фантазии. Метод, по сути, тот же, говорил Мадзини, каким пользуются сочинители романов о будущем, только с обратным временным направлением. В результате он имеет преимущество – возможность проверить жизненность своих фантазий посредством исторических изысканий. Ведет игру с реальностью. А отталкивается от того, что все, о чем бы он ни фантазировал, когда-то наверняка уже произошло. «Ага, – говорили на Рауэнштайнгассе итальянцу, который в своем непомерно просторном вязаном пуловере важно восседал за столом и хлестал красное вино, – ига, очень мило, даже вроде бы знакомо», но ведь придуманная история, которая некогда произошла на самом деле, не будет абсолютно ничем отличаться от обыкновенного пересказа; никто не оценит такой вымысел по достоинству, всяк решит, что перед ним просто-напросто изложение фактов. Это не важно, ответил тогда Мадзини, ему вполне достаточно приватного, тайного доказательства, что он сумел создать реальность.
По-моему, именно Анна Корет (она была почти на голову выше своего Йозефа, на ее голову) в конце концов убедила выдумщика забыть о приватности и тайности игр его фантазии и познакомить с ними публику. (Так или иначе, мадзиниевские истории от случая к случаю печатались в тех немногих журналах, что продавались в книжном магазине Корет и, окруженные плотными рядами исторических трудов, представляли там современность.) Мадзини по-прежнему нет-нет да и шоферил в экспедиционной фирме, на дальних перевозках, по-прежнему снабжал статуэтками падкую до антиквариата буржуазию и писал рассказы, место действия которых зачастую можно было отыскать на карте лишь приблизительно. По его хотению тонули в далеких морях рыболовные катера, вспыхивали в азиатской глуши степные пожары, а порой он как очевидец рассказывал о караванах беженцев и боях где-то там, далеко-далеко. Причем грань между фактом и вымыслом оставалась незрима.
«Для жажды развлечений и без того все едино, – якобы позднее записал Мадзини в одном из своих полярных дневников (океанограф Хьетиль Фюранн из шпицбергенского шахтерского поселка Лонгьир переслал их Анне Корет), – …наверное, мечтать после работы о переходах через джунгли, о караванах или о сверкающих плавучих льдах заставляет нас все та же стыдливая готовность сбежать от будней. Куда мы не добираемся сами, туда посылаем заместителей – репортеров, которые потом рассказывают нам, как все было. Но большей-то частью было как раз не так. И о чем бы нам ни сообщали – о гибели Помпей или о теперешней войне на рисовых полях, – приключение остается приключением. Ведь нас уже ничто не трогает. И нас не просвещают. Не пытаются расшевелить. Нас развлекают…»
Чем больше Мадзини увлекался тогда идеей вправду разыскать свои фантазии в реальности, тем чаще он переносил действие своих рассказов в суровые необитаемые края и в северную глухомань. В конце концов вымышленная драма, разыгравшаяся в пустынном безлюдье, была куда вероятнее и представимее, нежели какое-нибудь тропическое приключение, придумывая которое необходимо учитывать влияние многообразных природных факторов, а то и обряды чуждой культуры. И Мадзини отправлял персонажей своей фантазии все дальше на север, в конце концов туда, где не было даже эскимосов, – в вечные льды высоких арктических широт. Тем самым сочинитель как бы установил связь с ледяными образами детства; лишь впоследствии выяснится, что это была и связь с гибелью. Ведь первый шаг к исчезновению Мадзини сделал, когда в антикварных фондах книжного магазина Корет наткнулся на давнее описание арктической экспедиции, которая состоялась сто с лишним лет назад и была так же драматична, так же прихотлива, а в итоге так же невероятна, как вымысел, – отчет Юлиуса кавалера фон Пайера об императорско-королевской австро-венгерской полярной экспедиции, опубликованный в 1876 году Венским придворным и университетским издательством Альфреда Хёльдера.
Йозеф Мадзини был заворожен. Больше двух лет провела эта экспедиция среди паковых льдов и в один из лучезарных августовских дней 1873 года открыла в Ледовитом океане чуть выше 79-го градуса северной широты неизвестный до той поры архипелаг – примерно шесть десятков островов, сложенных из коренной породы и почти целиком погребенных под мощным ледовым панцирем, базальтовые горы, девятнадцать тысяч квадратных километров безжизненности. Четыре месяца в году солнце не всходило над этим островным царством, и с декабря по январь там властвовал кромешный мрак, когда температура воздуха опускалась до минус семидесяти по Цельсию. Начальники экспедиции – Юлиус Пайер и Карл Вайпрехт – в честь своего далекого монарха нарекли этот мрачный, неприветливый край Землею Императора Франца-Иосифа и таким образом заполнили на карте Старого Света одно из последних белых пятен.