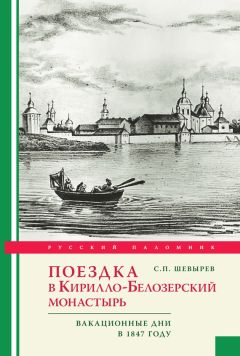Ознакомительная версия.
В сельском приюте своем Ф. А. Г. живет окруженный тремя сыновьями, из которых двое с отличным успехом проходят курс в вифанской семинарии, а третий еще готовится дома. Я слышал один урок. Мне особенно понравилась ясная кротость наставника-семинариста, противоположная крикливой настойчивости, которая не дает разума учению.
Кругом по стенам приемной комнаты развешаны портреты некоторых лиц, просиявших духовной жизнью. Тут вы увидите Тихона Воронежского, Серафима, отшельника Саровской пустыни, Паисия – портрет, присланный старцами Оптиной обители, усердно посвятившей себя памяти этого мужа, из Молдавии столько действовавшего на духовную жизнь и в наших пределах. Особенно остановил меня портрет Георгия Алексеевича, затворника Задонского. Он был военным, но воспитанный набожной матерью, рано почувствовал призвание к иночеству и прославился своей духовной жизнью. Он не имел столько учености, как отец Макарий Болховский блаженной памяти, но имел столько же любви – и писал письма, исполненные умиления, которые изданы одним из старцев Оптина. Благообразное и разумное лицо Георгия весьма поразительно.
Многие гости из Москвы, любя беседу Ф. А. Г., навещают его здесь охотно. Ему передают они вести о шумном движении западного мира. При мне говорили о чуде в Гренобле, об Эдгаре Кине, о Мишеле. С участием внимает всему радушный хозяин, но и с спокойствием, которого ничто не взволнует. Эта тишина мысли и слова в человеке, привыкшем к самоуглублению, действует успокоительно на нас, людей, живущих в том мире, где разум неразлучен со страстью и почти всегда подчинен ей.
Рано началось классическое учение для Ф. А. Г. Первые занятия детства были устремлены на поэзию. Десяти лет он уже прочел пять песен Виргилеевой «Энеиды». Занятия философией он избрал по собственному влечению. Лекции истории философии, им читанные в духов ной академии, существуют в рукописях. Некоторые написаны им самим, другие составлены его учениками. Теннеманн и Риттер служили ему для его лекций. Первого он предпочитает в том, что касается до изложения систем, за исключением односторонних мнений кантианских; Риттер не столько верен в изложении. Но главной основой для Ф. А. Г. было конечно собственное изучение, руководством при котором служило начало, тесно сопряженное со всей его жизнью.
Беседа Ф. А. Г. имеет двойной характер. Я никогда не встречал человека, который бы умел так строго править силами души в своем разговоре и так разграничивать сферы, в которых вращаются его мысли. Этих сфер две: религия и философия, живущие в духе его слитно и согласно. Из обеих сфер равно почерпает он предметы для своих бесед, обе равно ему доступны. Когда говорит он от философии, в речи его выражается ясное и спокойное сознание разума, в расположении мыслей господствует строгая логическая отчетливость, и каждое слово точно и определительно. Когда говорит он от веры, он весь – полнота умиленного чувства и слово его растворено любовью, а украшено одной простотой, истекающей из глубокого искреннего смирения. Тогда слово его понятно будет ребенку и простолюдину.
В таком случае он любит рассказ или притчу. Не могу здесь не вспомнить одного события, которое он мне передал. Оно случилось еще при императрице Екатерине II. Один сельский священник перестал служить вовсе обедню, потому что никто из прихожан не ходил в церковь. Тогда настоятель соседнего монастыря, узнав о том, дал ему совет служить для Ангелов, говоря, что они шепнут своим и приведут их за со бой. Священник послушался совета, начал служить – и в самом деле церковь мало-помалу опять наполнилась прихожанами.
Наша мысль, увлекаемая свободой разговора, весьма часто переходила из одной сферы в другую. При этих переходах в особенности мог я видеть опытность мудреца, превосходно владеющего логическим разумом и теплым чувством в своем слове. Все системы германской философии ясно проносятся в его голове. Изложение его, когда говорит он о науке, сохраняя ученый характер, вовсе чуждо темноты и ясной глубиной свидетельствует о совершенном знании предмета. Вот несколько отрывочных мыслей, собранных мной из поучительной беседы, о разных великих лицах, славных в истории немецкой философии.
В Шеллинговом учении было точно такое начало, которое могло вести к примирению философии с религией. Доказательство тому – все ученики его, чувствовавшие эту потребность: Клейн, Канне и другие. Потенции его, которыми он в последнее время силился логически до казать догмат Пресвятой Троицы, показывают только бессильную попытку разума вместить в формулу невместимое.
Баадер принадлежит к таким мыслителям, которые сами не строят систем, но своими сочинениями в других расшевеливают, возбуждают мысль. Надо же быть и таким мыслителям.
С уважением и сочувствием говорил Ф. А. Г. о Якоби, которого и в Германии называли новейшим Платоном. Он велик тем в особенности, что Шеллингу предсказал все последствия его первоначальной философии, которых Шеллинг не принял, но которые дали пищу Гегелеву учению. Весьма важно сочинение Якоби о Спинозе.
В учении Спинозы проведено повсюду логически начало необходимости. У него нет понятия о зле. Отсюда невозможность и нравственной философии. У Гегеля в его построении философских наук также нет нравственной философии, которая есть у Канта. Гегель смеялся над Кантом в этом отношении, приписывая нравственную сторону его системы влиянию его набожной матери и предрассудкам, навязанным ему из детства.
Гегель признает развитие, но вот задача, которой он не разрешает: как в развитии его из предыдущего развивается последующее? Откуда берется новое в жизни? Где источник этому истечению? Это может быть объяснено тогда только, когда в основу развития полагается полнота бытия, а у Гегеля бытие равное небытию, да и самое его «Sеin»[2], по его же собственному выражению, «eine schlechte Unendlichkeit»[3].
О сомнениях прекрасно выразился христианский мудрец. Важны и значительны сомнения мужественных душ, а не сомнения натянутые, ни из чего не вытекающие, разыгрываемые. Сомневался и блаженный Августин. Сомневался и Декарт. Из таких сомнений может выработаться знание истины, убеждение.
Прошу извинения у почтенного мудреца в том, что взял на себя изложить некоторые мысли, особенно врезавшиеся в моей умственной памяти. Принимаю на себя всю ответственность в том, если дал какой-нибудь не правильный оттенок тому, что слышал. Мне было приятно заслушиваться этой речи разумной, ученой и ясной, которая вливала мысль в мой разум, сведения в па мять и тишину в сердце. Я позволял себе думать, что если бы эти уста отверзлись для того, чтобы передать историю науки наук не одному академическому, но и университетскому нашему юношеству? С какой жадностью оно бы стало слушать ученого старца? Сколько бы пользы про изошло отсюда? А передавать науку так легко для его опытности; так кажется, все готово и все созрело здесь для передачи, и с каким радушием сообщается знание его владельцем, как будто это не личная его собственность, а достояние всех.
Много расточено великих и прекрасных сил по нашему отечеству, которые не сознаны, много светильников, таящихся под спудом, а не горящих на свечнике. Русское смирение часто укрывает таланты Божьи – и люди, призванные быть благовестниками истины, готовы тратить силы свои и время на такое служение, которое за них всякий другой мог бы легко исправить. Как часто у нас там не сознается личность, где она является сосудом мысли светлой, Божественной, и сознается сильно там и кричит на всю Россию, где она только сосуд самолюбия, а иногда и того хуже!
Я видел В.И. П-ву в скромном ее уединении. Здесь, у святыни Троицкой, имеет она приют. Дети православного грека, турецкого подданного, страдавшего за верность православию, нашли в ней мать и воспитательницу. Последнее отдает она этим сиротам в чужбине, возбуждающим искреннее участие к судьбе своей. Вот как Церковь соединяет нас до сих пор узами духовного родства с тем народом, от которого мы приняли веру[4]. Кроме этой малолетней усыновленной семьи у В.И. П-вой есть другая, престарелая, которая ее не меньше любит. От обители содержится богадельня для ста и более старушек, состоящая под начальством княжны Елизаветы Дмитриевны Цициановой. Удобно, спокойно и тепло помещаются они в особенных покоях. Рукоделье по силам составляет их занятие. Чистота, опрятность, мир, тишина и молитва поселились здесь, в этом приюте женской старости. Ежедневно за обедом и ужином В. И-на читает для них жертвенник, т. е. жития святых отец, и правила. Под ее руководством обошел я эти покои. Приятно было видеть, с какой радостью богаделенки принимали молитву и приветствие сердобольной послушницы и с какой лаской бросались к руке ее. При богадельне находится и больница. В сию последнюю принимают мещанок и крестьянок из окружных и дальних мест. Тут дмитровская мещанка, мать семейства, лишенная движения руками и ногами, нашла врачебные пособия. Сюда из Витебска безногая девка приползла на четвереньках в полном смысле этого слова! Лавра имеет своего безмездного врача, инока, отца Анастасия, который со всем бескорыстием, приличным его званию, и со всей добросовестностью ученого посвятил себя медицине. Он неутомимо посещал университетские лекции и клиники. Слава его простирается на сотни верст в окружности и привлекает к нему множество больных. Кроме богадельни, для приходящих богомолок есть странноприимная палата, состоящая под особым наблюдением Юлии Самойловны Головинской. Лавра действует, как действовали наши обители, которые кормили народ во время голода, давали прибежище больным, странным и престарелым. Но много пособий нужно еще нашему на роду. Не все обители в состоянии то же делать, что делали прежде.
Ознакомительная версия.