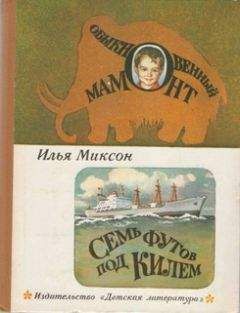Пока я готовил кофе, Монах расправлялся с рыбешкой и слушал мои соображения по поводу сна. В дневное время я обычно советуюсь с Гришей Саутиным, ночью же мой главный собеседник – Монах; с ним я обсуждаю наиболее щекотливые вопросы, и, должен заметить: еще ни разу он не дал мне плохого совета.
У меня вдруг возникло ощущение, что сегодня со мной произойдет нечто очень важное. Психоанализом я никогда всерьез не занимался – так, скользил по верхушкам, но к сему таинственному предмету отношусь со свойственным дилетанту суеверным уважением. В данном случае, однако, установить причинную связь было несложно. Первое звено – общение с Чернышевым, второе – чтение его записок, разволновавших меня не только описанием морских катастроф, но и тем, что некоторых ребят с опрокинувшихся судов я знал и теперь был потрясен обстоятельствами их гибели; третье – через несколько часов начнется совещание в управлении рыболовства.
Не буду врать про внутренние голоса и тому подобную мистику, но после чашки кофе я уже был совершенно уверен, что эти три звена составляют одну цепь и каким-то образом я буду к ней прикован. Я еще представления не имел, как будут дальше развиваться события, но доподлинно знал, что меня ждет что-то из ряда вон выходящее и что без Чернышева здесь не обойдется. А между тем в его заметках не было ни слова об экспедиции! Раньше говорили – предчувствие, теперь – подсознание, но суть от этого не меняется: нечто скрыто в нашей психике такое, что разумом объяснить невозможно и что когда-то приводило на костер несчастных ясновидцев и колдунов.
Впрочем, кое-какую пищу моим предчувствиям подбросил старик Ермишин. Вечером, когда я докладывал ему о встрече с Чернышевым, он посмеялся и, довольный, промычал в трубку: «Погоди, завтра на совещании еще не то будет!» А на мои расспросы Андреевич туманно ответил: «Ты пойди, пойди туда, не на двести, а на все пятьсот строк материалу наскребешь».
Я вообще не люблю ходить на совещания, так как убедился в том, что обычно все самое важное решается наверху, но сегодня смотрел на часы с нетерпением влюбленного студента. Я так суетился, что в конце концов вызвал у Монаха законное подозрение.
– Что-то у тебя глаза блестят… Всю ночь лягался и сбрасывал меня на пол, галстук новый надел. Уж не для Марии ли Чернышевой?
– Вот еще, – возмутился я. – Тоже мне Софи Лорен.
Мой ответ Монаха не удовлетворил.
– Представляю, как она вчера перед тобой вертелась, – мяукнул он. – Учти, про ее гастроли весь город знает.
– Брехня, – я деланно зевнул. – Бабьи наговоры.
– И брюки нагладил, – с растущим подозрением установил Монах.
– Уши вымыл, – добавил я. – Нужен я ей очень…
– А она тебе? – ехидно закинул удочку Монах. – Знаем мы вашего брата, свободного охотника, сами на стороне пробавляемся.
– Пошел вон, негодяй, – душевно сказал я. – Распутник, ворюга, а еще с критикой лезет.
Обиженный Монах ушел не простившись. Полюбовавшись из окна свалкой, которую он затеял на задворках рыбного магазина, я спустился, кое-как завел «Запорожец» и вошел в конференц-зал управления за четверть часа до начала совещания. Туда уже загодя пришло много народу: верный признак того, что совещание обещает быть интересным.
– И пресса здесь? – приветствовал меня Чупиков. – Какими судьбами? Ага, Чернышев пригласил, ясно… Значит, будет выступать, рвется в газету!
– Давать материал о себе он отказался, – возразил я.
– Вы, извините, наивны, ведь это тоже реклама: вот, мол, какой я скромный! Он и рассчитывает, что вы напишете: «О себе Чернышев говорить не любит, но охотно рассказывает о таких отличившихся на промысле людях, как старпом Лыков, тралмастер Птаха, матрос Воротилин…»
– Именно эти фамилии он и назвал, – признался я.
– Еще бы, – торжествовал Чупиков, – опора, личная гвардия! Держу пари, что он был с вами исключительно вежлив и предупредителен.
– Пари проиграете.
– Неужели нахамил? – У Чупикова радостно блеснули глаза.
– Ну не то что нахамил, а так… Но это не имеет значения, человек он все-таки незаурядный.
– Очень может быть, – сухо проговорил Чупиков, сразу теряя ко мне интерес. – Желаю успеха. И отвернулся. Чего требовать от человека, у которого из-под венца увели невесту!
Кивнув, прохромал мимо Чернышев, тонкие губы, искривились в усмешке – это он раскланивался с Астаховым; многие поздравляли его с победой в соревновании, и Чернышев благодарил все с той же довольно неприятной усмешкой, ставящей под сомнение искренность поздравителей. Ему бы шляпу с пером и шпагу – Мефистофель! Появился и Ермишин, которого капитаны приветствовали с подчеркнутой почтительностью, старика здесь любили. Я помахал ему рукой, и он сел рядом.
– Старею, – отдуваясь, проговорил он. – На третий этаж без лифта поднялся – чуть главный двигатель не пошел вразнос.
– Курить надо бросать.
– Э, я свою плантацию давно выкурил, – вздохнул Ермишин, – пустую трубку посасываю. Блокнотом запасся?
Я с заговорщическим видом приоткрыл портфель, где лежал магнитофон.
– С пятого ряда? – усомнился Ермишин. – Не возьмет.
– Микрофон мощный, шепот из-за дверей улавливает.
– Постой, так ты и меня записывал? – спохватился Ермишин. – Все словечки?
– Словечки размагничу, – пообещал я. – Не бескорыстно, конечно, за вечер воспоминаний.
– Ах ты, сукин сын… Ладно, помолчим.
Председательствующий постучал по графину, совещание началось.
А примерно через два часа Чернышев обвинил в трусости двадцать девять капитанов.
Вообще-то такое слово произнесено не было, но оно угадалось и вызвало всеобщее возмущение. Но сначала выступали другие. Гибель четырех траулеров была еще свежа в памяти, и капитаны, сменяя друг друга на трибуне, высказывали самую серьезную тревогу и сомнения: не слишком ли велика опасность обледенения для низкобортных сейнеров и СРТ в открытом море? Капитаны были опытные, а иные знаменитые, познавшие славу, их мнение много значило – и почти все они говорили о том, что осваивать новые районы лова в штормовые зимние месяцы дело хотя и на редкость перспективное, но чреватое опасными последствиями. Обледенение судов вдруг предстало коварнейшим врагом, в повадках которого еще следовало разобраться. И когда Сухотин, один из самых заслуженных капиталов, прямо предложил на зимний промысел посылать лишь большие морозильные траулеры, зал притих: что скажет начальство?
Ситуация была щекотливая: ведь все прекрасно понимали, что именно сейнеры и СРТ «делают план», дают основную часть добычи рыбы; понимали, что снять, резко уменьшить план добычи – дело чрезвычайное и вряд ли министерство на это пойдет, но ведь и опасность обледенения – дело чрезвычайное. Словом, все притихли – предложение прозвучало, и на него следовало дать ответ.