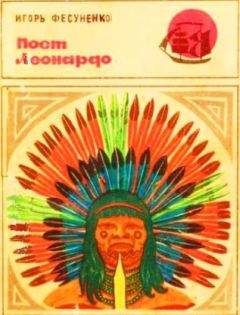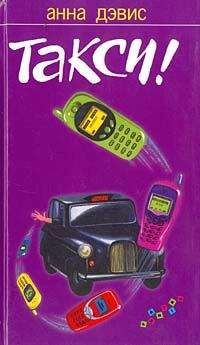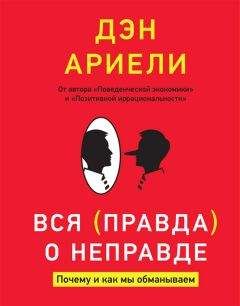Орландо, прислушивавшийся через окно к нашей беседе, точнее говоря, к моему монологу, выходит из «конторы» и присаживается рядом с нами, обмахиваясь своей академической шапочкой.
— Хочешь всю правду до конца, Игорь? — говорит он. — Ладно, слушай. Скажу. Индеец обречен! Обречен... Ничто его не сможет спасти! Поздно... Наша цивилизация поглотит его. Наша культура раздавит индейскую культуру. А мы?.. Мы только стремимся сделать эту неизбежную смерть менее болезненной. Вот и все.
Клаудио молчит, а потом покачивает головой:
— Да, Орландо прав. В условиях нашего режима в нашем обществе для индейца нет места. Может быть, какая-нибудь другая социальная система... возможно, ваш социализм смог бы разрешить эту проблему. А при нынешнем устройстве общества это невозможно.
— Кстати, о проблеме, — вмешивается Орландо. — Сколько об этом сейчас говорится и пишется: «индейская проблема»! Нужно решить «проблему индейцев»! «Индейская проблема» близка к решению! Тьфу! — Он плюет под ноги и смачно ругается... — Кто мне скажет, черт возьми, что это такое за штука — «индейская проблема»? Ее выдумали мы сами. Мы, белые. У индейцев до того, как на этой земле появились мы, не было никаких проблем. Они жили спокойно. И прожили бы еще тысячу и десять тысяч лет! Так нет: появились белые и принесли вместе с собой эту «индейскую проблему».
«Авио-о-он!» — раздается пронзительный вопль Кокоти. Он, чертенок, все-таки первым услышал тонкое пение мотора.
Все мы срываемся со своих мест: Мейрован бежит заводить «джип», Галон судорожно завязывает папку с рисунками. На тропке, уходящей к малокам чикао, показываются семенящие женщины: заслышав пение мотора, они, не дойдя до деревни, помчались обратно. Тяжелый «Дуглас» уже заходит на посадку, вздымая пыль. К «конторе» подкатывает «джип», и мы бросаем в него свои чемоданы и рюкзаки. Марина бежит в медпункт за Унираньей. А пунктуальный Нельсон уже сидит рядом с Мейроваиом на переднем сиденье «джипа», аккуратно поставив на колени свой изящный чемоданчик.
Еще через три минуты, когда самолет грузно подруливает к безжизненно болтающейся дырявой «колбасе», мы уже стоим на полосе, готовые к погрузке. Откидывается дверь, из самолета выползает лесенка. Офицер ФАБ приветливо машет Орландо: «Грузитесь скорее, за Шавантиной ожидается грозовой фронт!»
— Ну что, — спрашивает Орландо, — будем прощаться?
И начинаются объятия, нежные похлопывания по спине и плечам. Чуть поодаль, сощурившись от пыли, стоят Симаира, Якупе, Явайту. Мейрован и Пиуни деловито швыряют наши сумки, чемоданы и свертки сержанту, командующему погрузкой. Бенедито и Гарсия тащат на носилках Униранью. Девочка ничего не понимает. На ее исхудавшем лице застыло выражение ужаса. Сержант, приняв носилки, ставит крест в бортовом листе и кричит нам:
— Поживее поворачивайтесь!
И мы идем один за другим в это жаркое чрево самолета: Галон, Нельсон и я. Каждый оборачивается, чтобы махнуть на прощанье рукой, и каждого в этот самый момент нетерпеливый сержант строго окликает: «Фамилия?» — и делает отметку в своем бортовом листе.
Там, в самолете, заваленном ящиками, мешками, коробками, на двух длинных жестких скамьях сидят несколько офицеров ФАБ, летящих с далеких баз в отпуск в Рио, две чинные монашки, заточенные в свои длинные одеяния, какое-то семейство, переселяющееся, как выяснилось впоследствии, в Сан-Пауло из Манауса. На полу, на носилках, лежит Униранья, глядя на три наших — единственно ей знакомые! — лица с мольбой и надеждой.
Я выглядываю в окно. Клаудио и Орландо стоят рядом. Один в бесформенных штанах и рубахе, которая, казалось, никогда не знала утюга. Другой в серых шортах и вылинявшей шапочке. Сколько самолетов они уже встретили и проводили? Сколько еще им предстоит встречать и провожать?..
Эти два смертельно усталых человека еще не знали в тот момент, что в столичных канцеляриях уже был утвержден проект новой дороги Бразилиа — Манаус, которая должна будет рассечь Национальный парк Шингу. Они еще не знали, сколько сил им придется потратить, настаивая на небольшом изменении трассы. Чтобы она пошла в обход Парка... Они не знали тогда, что все их усилия потерпят неудачу, и в начале 1971 года севернее Диауарума состоится открытие новой дороги, которая станет «окном» в Шингу, означающим конец изоляции и покоя, который они более четверти века тщетно пытались здесь создать.
Чуть позади, готовый подбежать по первому зову Орландо, стоит Кокоти, давно уже привыкший к суматохе, ко всем этим самолетам, посадкам, взлетам, опозданиям, шуму, суете. Я нащупываю в кармане перочинный ножик, подбегаю к двери, высовываюсь и кричу, размахивая рукой:
— Кокоти! Кокоти, иди сюда!
Он подходит. Я наклоняюсь и, крикнув: «Держи!», бросаю ему этот ножик: три восхитительно острых лезвия, отвертка, шило, столь необходимое здесь, и штопор, столь бесполезный для Кокоти. Он ловит нож и вопросительно оглядывается, ища глазами Орландо. Тот улыбается и одобрительно кивает головой. Кокоти улыбается радостно и машет рукой: «Спасибо!»
— Я пришлю фотографии! — кричу я. Кокоти кивает головой. Он смотрит на меня дружелюбно, но — как бы это сказать? — без горячей любви. Он знает, что я «караиба». А из всех «караиба» только Орландо и Клаудио достойны доверия и дружбы. Только Орландо и Клаудио...
Самолет приземлился в Диауаруме.
Дочка повара Сабино.
Орландо (справа) и Клаудио Вилас-Боас.
Вождь иолапити Канато делает флейту жакуи.
Молодые чикао на плантации.
Женщина камаюра занимается прядением.
Аритана, сын Канато.
Диауарум. Автор книги беседует с Клаудио Вилас-Боасом и индейцем племени чукарамае.
На берегу реки Шингу (пост Диауарум).
Молодой чукарамае у самолета.
«Карамело? Это очень вкусно!»
Галон с Нилой — дочкой Пиуни.
Макари и Карикари играют на авижаре (деревня камаюра).
Тридцать лет с индейцами (Клаудио Вилас-Боас).
Дети камаюра.
Медсестра Мария осматривает сынишку Якупе (чикао).
«Алло! Сан-Пауло! Сколько стоит фанасуфа?»
Аруйаве — последний из трумаи.