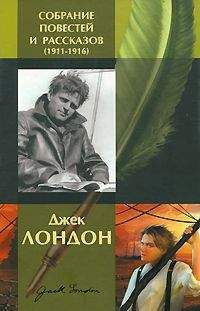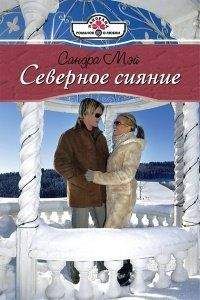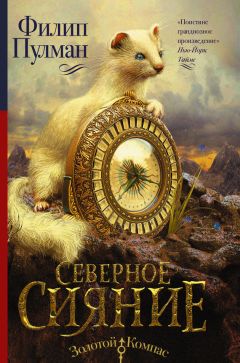Случая на третий день, однако, не представилось.
Холостяки изменили направление разведки, и в то время как Малыш и Мак-Кэн пробирались вместе с собаками вверх по ручью, Смок с холостяками выслеживал в шестидесяти милях к северо-востоку второе стадо карибу. Несколько дней спустя они вернулись в главный лагерь. Снег падал тяжелой пеленой. Какая-то женщина, причитавшая, сидя у костра, сорвалась с места и бросилась к Смоку. В глазах ее горела смертельная ненависть, и голос ее срывался. Она осыпала Смока хриплыми проклятиями, тыча пальцем в какой-то неподвижный, завернутый в меха предмет, лежавший в санях, которые только что прибыли в лагерь.
Смок мог только догадываться о том, что случилось, и, подходя к костру Мак-Кэна, готовился встретить второй поток проклятий. Вместо этого он увидел самого Мак-Кэна, усиленно жевавшего мясо карибу.
— Я не гожусь в бой, — плаксиво пояснил Мак-Кэн. — Но Малыш удрал, хотя они все еще гонятся за ним. Он, наверное, будет драться с ними. Все равно они его поймают. У него нет никаких шансов уйти далеко. Он уложил двух молодых индейцев — скоро об этом узнает весь лагерь. А одного ранил в грудь.
— Знаю. — ответил Смок. — Я только что встретил вдову.
— Старик Снасс хочет видеть вас, — добавил Мак-Кэн. — Он приказал, чтобы вы явились к нему, как только вернетесь. Я не проболтался. Вы ничего не знаете. Помните это. Малыш удрал со мной по собственному почину.
У костра Снасса Смок нашел Лабискви. Она встретила его таким нежным и любящим взглядом, что он испугался.
— Я рада, что вы не пытались бежать, — сказала она. — Видите ли, я… — Она заколебалась, но не опустила глаз; их сияние не оставляло места сомнениям. — Я зажгла костер и сделала это ради вас. Свершилось! Я люблю вас больше всего на свете… больше отца… больше, чем тысячу Либашей и Махкуков. Я люблю — это очень странно — я люблю, как любила Франческа, как любила Изольда. Старик Четырехглазый сказал правду. Индейцы так не любят. Но у меня синие глаза, и я белая. Мы оба белые — вы и я.
Смоку никогда в жизни не делали предложения, он совершенно не представлял себе, как следует поступать в таких случаях. А что еще хуже — это даже не было предложением. Его согласие было предрешено. Лабискви была так уверена в успехе своего предприятия, глаза ее сияли таким теплым светом, что ему оставалось только удивляться, почему она не обнимает его и не припадает головой к его плечу. Потом он сообразил, что, несмотря на всю чистоту ее чувства, ей неведомы телесные проявления любви. Такие вещи не в ходу у первобытных дикарей. Ей не у кого было научиться им.
Она щебетала, воспевая счастливое время любви, а он боролся с собою, принуждая себя каким-нибудь образом сказать ей убийственную правду. Ведь это был на редкость удобный случай.
— Но послушайте, Лабискви, — начал он. — Вы уверены, что Четырехглазый рассказал вам всю историю любви Паоло и Франчески?
Она всплеснула руками и, непоколебимо уверенная в своем счастье, залилась радостным смехом:
— О! А разве есть продолжение? Я так и думала, что там будет еще больше любви. Я очень много думала с тех пор, как зажгла костер. Я…
Тут сквозь пелену падающего снега у костра показался Снасс, и Смок упустил случай.
— Добрый вечер, — угрюмо буркнул Снасс. — Ваш товарищ заварил кашу. Я рад, что у вас оказалось больше здравого смысла.
— Может быть, вы скажете мне, что случилось? — обратился к нему Смок.
Белые зубы старика сверкнули из-под седых усов в усмешке, которую вряд ли можно было назвать любезной.
— Пожалуйста! Ваш товарищ убил одного из моих людей. Этот слюнявый карапуз Мак-Кэн удрал при первом выстреле. Он-то уж больше не сбежит. Но мои охотники гонятся в горах за вашим товарищем и в конце концов поймают его. Он никогда не доберется до Юконского бассейна. Что же касается вас, то отныне вы будете спать у моего костра. И конец разведкам с молодежью! Я буду присматривать за вами сам.
VIII
Переселение на стоянку Снасса было для Смока очень тягостно. Он встречался с Лабискви чаще, чем раньше. Что-то жуткое было для него в ее чувстве — откровенном, невинном и нежном. В ее глазах сияла любовь, и каждый взгляд ее был лаской. Десятки раз он собирался рассказать ей про Джой Гастелл и десятки раз убеждался в том, что он трус. Самое неприятное было то, что Лабискви была прелестна. Она положительно радовала его взоры. Несмотря на то что каждая секунда, проведенная в ее обществе, заставляла его презирать самого себя, он чувствовал в то же время, что каждая такая секунда доставляет ему наслаждение. В первый раз в жизни он по-настоящему узнал женщину, а душа Лабискви была так чиста, так привлекательна в своей искренности, в своем неведении, что он не мог ошибиться ни в одном движении ее. В Лабискви была сосредоточена вся первородная чистота ее пола, не исковерканная условностями культуры и ханжеством самозащиты. Он вспомнил Шопенгауэра и решил, что мрачный философ ошибался. Узнать женщину так, как Смок узнал Лабискви, значило понять, что все женоненавистники — больные люди. Лабискви была очаровательна. И все же рядом с нею в его душе не меркла память о Джой Гастелл. Джой была сдержанна и умела контролировать себя, над ней тяготели все запреты, накладываемые на женщину цивилизацией, и все же его угодливое воображение наделяло ее теми же качествами, какие были у Лабискви. Одна давала ему возможность оценить другую, и все женщины мира получали надлежащую оценку благодаря тому, что Смоку в снежной стране, у костра Снасса, открылась душа Лабискви.
Смоку многое открылось и в его собственной душе. Он оглянулся назад, вспомнил все, что знал о Джой Гастелл, и понял, что любит ее. Но и Лабискви доставляла ему много радости. А чем было это чувство радости, как не любовью? Каким другим именем мог он назвать его? Да, то была любовь. То должна была быть любовь. И он был потрясен до глубины души, обнаружив в себе эту склонность к полигамии. В салонах Сан-Франциско ему приходилось слышать утверждения, будто мужчина может одновременно любить двух или даже трех женщин. Но он не верил этому. Да и как мог он поверить, не убедившись на собственном опыте? Теперь было не то. Теперь Смок действительно любил двух женщин сразу, и хотя он чаще был убежден, что любит Джой Гастелл сильнее, у него все же бывали минуты, когда он с равной уверенностью мог сказать, что сильнее любит Лабискви.
— В мире, наверное, очень много женщин, — сказала она как-то. — И женщины любят мужчин. Должно быть, вас любило много женщин. Правда?
Он не ответил.
— Ну, скажите же, — настаивала она. — Разве это не так?
— Я никогда не был женат, — уклонился он от прямого ответа.