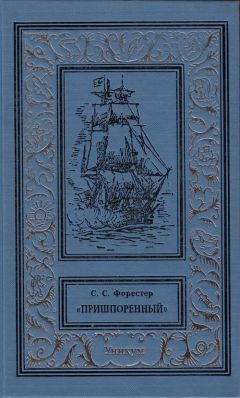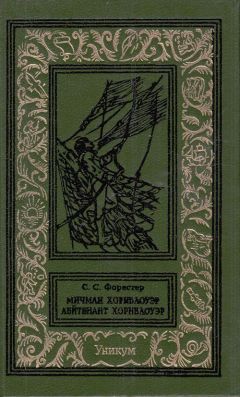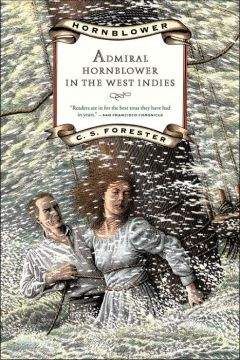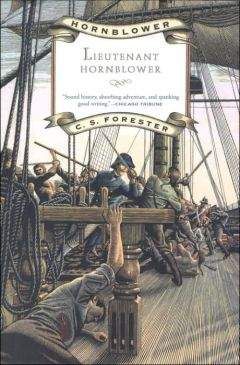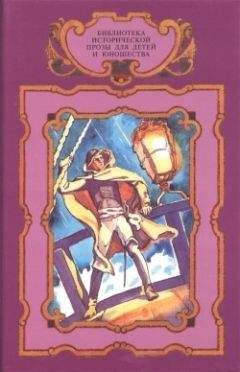Этим вечером в Смоллбридже, пока Браун и форейтор грузили его сундучок в экипаж, он прощался с Ричардом, пожав его руку, как мужчина мужчине.
— Ты опять идешь воевать, папа? — спросил Ричард.
Он сказал еще одно «прощай» Барбаре. Это было непросто. Если повезет, он может вернуться домой через неделю, однако он не мог говорить об этом, так как это могло открыть слишком многое из того, в чем заключается его миссия. Этот маленький обман поспособствовал тому, что ощущение единства и нераздельности было разбито вдребезги, он снова сделался немного отстраненным и официальным. Когда он отвернулся от нее, у него возникло странное чувство, что нечто утрачено навсегда. Потом он забрался в коляску, Браун уселся рядом с ним, и они поехали. Приближался вечер, когда они направлялись к Гилдфорду, огибая осенние холмы Даунса, а когда выехали на Портсмутскую дорогу — дорогу, по которой он ездил уже столько раз по разным причинам, наступила ночь. Переход от роскоши к трудностям оказался быстрым. В полночь он поднялся на палубу «Порта Коэльи», где его встретил Фримен, коренастый, плотный и смуглый, как и всегда, с прядями черных волос, ниспадающими на щеки, на цыганский манер — кто-то спросил однажды, почти удивленно, почему он не носит серьги в ушах. Хорнблауэру потребовалось не более десяти минут для того, чтобы, при условии соблюдения секретности, рассказать Фримену о сути миссии, которую предстоит выполнить «Порта Коэльи». Во исполнение приказов, полученных им за четыре часа до этого, Фримен уже приготовил бриг к выходу в море, и по истечение тех самых десяти минут моряки уже встали к кабестану, поднимая якорь.
— Ночка обещает быть веселенькой, сэр, — раздался из темноты голос Фримена, — барометр продолжает падать.
— Думаю, что так и будет, мистер Фримен.
Неожиданно голос Фримена загремел с силой, которую Хорнблауэр вряд ли когда раньше приходилось встречать: эта бочкообразная грудная клетка оказалась способной производить звук изумительной громкости.
— Мистер Карлоу! Отправьте всех убавить парусов! Убрать этот грот-стень-стаксель! Еще по рифу на марсели! Квартермейстер, курс зюйд-зюйд-ост.
— Зюйд-зюйд-ост, сэр.
Доски под ногами Хорнблауэра слегка завибрировали от топота матросов, пробежавших по палубе, других свидетельств тому, что приказ Фримена исполняется, в темноте невозможно было получить. Скрип блоков или уносился прочь ветром или тонул в завывании снастей, и он не мог разглядеть никого из тех, кто полез на мачты, чтобы взять рифы на марселях. Он замерз и устал после трудов дня, который начался — сейчас в это трудно было поверить — с прихода портного, наряжавшего его в церемониальное одеяние рыцаря ордена Бани.
— Я спущусь вниз, мистер Фримен, — сказал он, — позовите меня, если понадобится.
— Есть, сэр.
Фримен закрыл за ним крышку откидного люка, закрывавшую трап — «Порта Коэльи» была судном с плоской палубой, появился тусклый свет, освещавший ступеньки — свет хоть и слабый, но режущий глаз после непроглядной темноты ночи. Хорнблауэр спускался, согнувшись почти пополам, чтобы миновать палубные бимсы. Дверь справа вела в его кабину: квадрат со стороной в шесть футов и выстой в четыре фута и десять дюймов. Хорнблауэру пришлось присесть, чтобы избежать столкновения с лампой, подвешенной к потолку. Он знал, что теснота этого помещения, лучшего на корабле, ничто по сравнению с теми условиями, в которых живут остальные офицеры, и в двадцать раз более чем ничто по сравнению с условиями, в которых обитают матросы. Высота между палубами в передней части корабля такая же: четыре фута десять дюймов, а люди там спят в парусиновых койках, расположенных в два яруса — один над другим, так что носы спящих наверху трется о палубную переборку, а косицы нижних стучат по полу, а в середине носы и косицы соприкасаются. «Порта Коэльи» представляла собой в своем классе самую совершенную боевую машину, когда-либо бороздившую моря: она несла пушки, которые могли разнести в клочья любого противника ее размеров, ее боевые погреба обеспечивали ведение боя в течение нескольких часов или даже дней, запаса провизии было достаточно для того, чтобы находится в море несколько месяцев не приставая к земле, она была вполне надежной и крепкой для того, чтобы вынести любой шторм — единственное, что было не так, это то, что для достижения таких результатов при 190 тоннах ее водоизмещения, люди, населявшие ее, должны были довольствоваться жизнью в таких условия, которые ни один заботливый фермер не посчитал бы пригодными для своего скота. Именно ценой человеческой плоти и крови Англия содержала бесчисленное количество малых судов, которые, под прикрытием могучих линейных кораблей, делали моря безопасными для нее.
В каюте, хотя и крохотной, стояла невыносимая вонь. Первое, что ударило Хорнблауэру в ноздри, была копоть и угар от лампы, однако вскоре она была вытеснена целой гаммой дополнительных запахов. Здесь присутствовал легкий запах воды, скопившейся в трюме, по существу, почти не привлекший внимание Хорнблауэра, который привык к нему за двадцать лет службы. Присутствовал здесь въедливый аромат сыра, а если отбросить его прочь, то ощущался устойчивый крысиный запах. Пахло мокрой одеждой, и в конце-концов, здесь ощущалась целая смесь ароматов, присущих человеку, преобладал же давно укоренившийся запах немытого человеческого тела.
Эта смесь запахов дополнялась какофонией звуков. Каждая деревяшка резонировала в тон завываниям снастей такелажа: находясь внутри этой каюты, можно было сравнить себя с мышью, забравшейся в играющую скрипку. Постоянный топот ног на квартердеке и гул снастей делали это похожим (если уж продолжать сравнение) на то, как если бы по скрипке в то же самое время стучали маленькими молоточками. Деревянная обшивка брига стонала и скрипела при движениях судна, словно снаружи по ней стучал какой-то великан, и сложенные ядра тоже слегка ворочались при каждом движении, так что в самом конце схода с волны звучал неожиданный и торжественный глухой удар.
Едва Хорнблауэр вошел в каюту, «Порта Коэльи» внезапно дала неожиданно сильный крен: очевидно, именно в этот момент она вышла в открытые воды Канала, где западный бриз обрушился на нее со всей силой и положил на борт. Хорнблауэр был захвачен врасплох — процесс обретения «морских ног» после долгого пребывания на берегу всегда требовал времени — его бросило вперед, к счастью, по направлению к койке, на которую он рухнул лицом вниз. И пока он лежал, распластавшись, на койке, ухо его уловило смешанный звук — это не закрепленные должным образом различные предметы попадали со своих мест под воздействием этой первой большой волны. Хорнблауэр приподнялся в койке, ударился головой о палубный бимс, и в этот самый момент новый вал опять застал его врасплох. Он упал на жесткую подушку, и лежал, истекая потом во влажной духоте каюты, как по причине последних упражнений, так и из-за начинающейся морской болезни. Он смачно выругался, на этот раз от всего сердца, ненависть к этой войне, еще более сильная из-за осознания состояния совершенной безнадежности, бушевала внутри него. Он с трудом мог представить себе, что может быть заключен мир — в последний раз, когда не было войны, он был еще совсем ребенком, однако его охватило невыносимое желание мира, что выражалось бы в прекращении войны. Он устал от войны, устал чрезмерно, и усталость его делалась острее и горше с учетом результатов минувшего года. Новости о полном разгроме наполеоновской армии в России немедленно пробудили надежду на скорый мир, однако Франция не дрогнула, собрала новые армии, и остановила поток русского контрнаступления далеко от жизненного центра Империи. Знатоки указывали на жестокость и всеобъемлющий характер, который Наполеон придал призыву на военную службу, на тяжесть установленных им налогов, и предрекали скорый бунт внутри империи, за которым, возможно, последует переворот, устроенный генералами. С момента, когда эти предсказания должны были осуществиться, прошло десять месяцев, но не было никаких признаков, что это действительно произойдет. Когда Австрия и Швеция вступили в ряды противников Бонапарта, люди опять заговорили о скорой победе. Они надеялись, что невольные союзники Бонапарта — Дания, Голландия и другие, отпадут от альянса, что предопределит быстрое крушение Империи, и каждый раз терпели разочарование. Уже давно думающие люди предсказывали, что когда вихрь войны ворвется внутрь самой Империи, когда Бонапарт будет вынужден вести войну ради войны на земле своих собственных подданных, а не территории врагов или своих сателлитов, борьба должна будет прекратиться практически сама собой. И тем не менее, прошло три месяца с тех пор, как Веллингтон со стотысячной армией перешел через Пиренеи и пересек священную границу, но он, удерживаемый смертельной хваткой на далеком юге, все еще оставался в семистах милях от Парижа. Казалось, что ресурсам или решимости Бонапарта не будет конца.