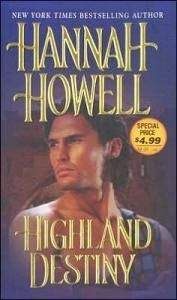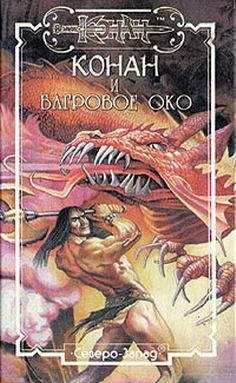Адмирал-коммерсант, без сомнения, сгущает краски, но не из желания приврать, свойственного морским волкам, а следуя древним традициям финикийцев рассказывать истории, от которых у возможных конкурентов, желающих заняться заморской торговлей, волосы встали бы дыбом. И подобными историями пунийцы действительно способствовали созданию распространенной в античном мире гипотезы о вое бесспорно доказанное путешествие в высокие северные широты имело большое значение для расширения географических познаний в древнем мире.
Гимилькон и его спутники, правда, при этом по-прежнему думали лишь о коммерческой стороне дела. Они, видимо, добрались все-таки до Южной Англии и Ирландии. С тамошними владельцами рудников, очевидно, был заключен торговый договор, и еще долгое время карфагенские суда ходили к Оловянным островам, пока в 146 году до н. э. римляне не разрушили Карфаген. Господству пунийцев на море пришел конец.
Кроме олова, была еще одна весьма серьезная причина, заставлявшая пунийцев блокировать Гибралтарский пролив. Они, оказывается, были не только отличными мореходами, но и выдающимися ремесленниками[49]. В Тире изготовляли знаменитую пурпурную краску из мякоти моллюска, который водился только в Средиземном море[50]. Тысячи рабов занимались отловом раковин-пурпурниц.
Способ получения краски, разработанный тирскими химиками, до сих пор вызывает восхищение ученых. Краску получали путем высушивания мяса моллюска. Для получения нужного тона, от нежно-лимонного до темного пурпура, краску на разное время подвергали действию света. Для налаженного производства требовались согни тысяч пурпурниц: ведь из 12 тысяч штук получали только полтора грамма краски.
Тирский пурпур диктовал моду античному миру. Несмотря на то, или, напротив, именно потому, что окрашенные в результате такого трудоемкого процесса ткани стоили столь расточительно дорого, ни одна зажиточная женщина не обходилась без пурпурных материй из Тира. Еще в 300 году н. э. один фунт драгоценной ткани стоил безумные деньги — 1000 марок, и женская любовь к нарядам подорвала финансовое благополучие не одной семьи.
Роль фрака у нынешних дипломатов в те времена заменяла пурпурная мантия. И безусловно, атавизмом, дошедшим из той далекой эпохи, следует считать красные генеральские лампасы, сохранившиеся еще и в наши дни. Не удивительно, что в условиях высокой конъюнктуры финикийцы делали попытки найти новые источники сырья, которые позволили бы к их вящей прибыли делать пурпурную краску более простым способом и в гораздо больших количествах.
Финикийские капитаны получают строжайшее указание привозить домой всевозможные виды чужеземной флоры и фауны. И может быть, эксперты по краскам под насмешки бывалых моряков сами взбирались на борт в надежде найти в путешествии нужный материал.
…Однажды серым ветреным днем где-то в первой половине последнего тысячелетия до нашей эры финикийское судно, плывшее у берегов Западной Африки, подхватил свирепый норд-ост. Несмотря на все усилия, команде так и не удалось удержаться под парусами под защитой берега. И казалось, что морякам грозит безвременная смерть вдали от родины, как вдруг после долгих скитаний по морю на горизонте замаячила полоска суши. Так случайно были открыты Канарские острова[51]. Удача словно хотела вознаградить финикийских моряков за их долгие мучения — на островах был найден цветной лишайник[52], из которого затем получили лакмус. А при более подробном исследовании местной флоры оказалось, что и из красноватой текучей смолы растущего здесь драконова дерева[53] тоже можно получать краску.
В мгновение ока осмеянный вчера чудак с гербарием сегодня становится национальным героем. Его изображения высекаются на стенах храмов, и благодаря новому красителю он становится самым богатым человеком в Тире. Но денежные тузы Финикии неспокойно спят по ночам — им все чудится, что тщательно сохраняемая тайна станет известна и новый источник доходов ускользнет из их рук. От подобных страхов умело избавились только их карфагенские племянники. Став могущественной морской державой, Карфаген раз и навсегда постановил, что Геркулесовы столбы — для всех прочих — являются… концом света. В одном из сочинений, приписываемых Аристотелю, сообщается даже и о таких мерах:
«…когда карфагеняне стали часто посещать его (один из Канарских островов. — Г. Е.) и некоторые из-за плодородия почвы поселились там, то суфеты Карфагена запретили под страхом смерти ездить к этому острову. Они истребили жителей, чтобы весть об острове не распространилась и толпа не могла бы устроить заговор против них самих, захватить остров и лишить карфагенян счастья владеть им».
Чтобы еще более обеспечить и гарантировать привилегии государства, карфагенский суфет Ганнон примерно в то же самое время, что и Гимилькон, организует флотилию из 60 судов по 50 гребцов на каждом. От киля до клотика корабли были забиты людьми, которые надеялись попытать счастья в уже существовавших или во вновь организуемых колониях Карфагена на африканском побережье.
В 525 году до н. э. флотилия пустилась в путь. Дальнейшие события известны нам из лаконичного сообщения Ганнона, которое тайно хранилось в виде надписи в карфагенском храме Кроноса[54] и стало известно лишь после завоевания пунической метрополии римлянами.
Экспедиция основала шесть поселений на западном берегу Африки, самое южное из них был Арамвий на мысе Джуби[55], лежащем как раз напротив Пурпурных (Канарских) островов. Чтобы завязать новые торговые сношения, Ганнон направляется со своей уменьшившейся флотилией в области, которые ранее были не известны никому из средиземноморцев, за исключением разве что участников экспедиции Нехо.
Близ Уэд-Дра[56] они повстречали ликситских кочевников, которые гостеприимно встретили пунийцев. Ганнон взял с собой нескольких ликситов переводчиками. Через несколько дней экспедиция достигла большой реки (Сенегала), воды которой кишели крокодилами и бегемотами. Жители устья Сенегала очень недружелюбно отнеслись к карфагенянам: «лесные люди, одетые в звериные шкуры», забросали их камнями и помешали высадке на берег.
Жители области, которую участники экспедиции видели в последующие двенадцать дней — Ганнон называет ее Эфиопией[57], — тоже, видимо, поняли, какая судьба уготована им, если их обнаружат колонизаторы. Во всяком случае, до прямого контакта дело не дошло, они удирали от пришельцев со всех ног. Это побудило Ганнона высказать предположение, что эти люди могут в беге соревноваться с лошадьми.