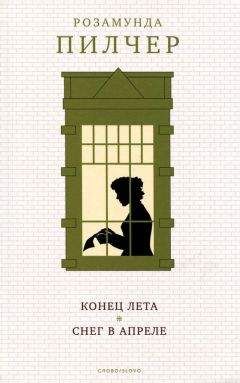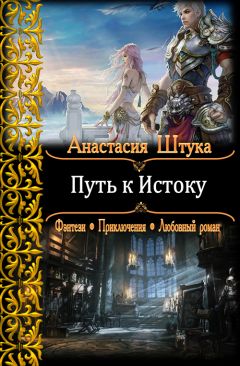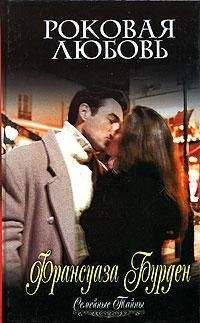Ознакомительная версия.
– Там проход есть, Александр? Пролезем?
Жамин кивнул, но я начал сомневаться в успехе нашего предприятия. Одному и то тяжело в расщелинах, а мы поднимаем на уступы неудобные носилки с лежачим больным. Безнадежное дело! И не было никаких признаков, что этот склон ущелья полегче, чем тот, с какого мы вчера спустились. О каком проходе они говорят?
Носилки имели конструктивный недостаток. В них не было поперечной жесткости, Виктор провисал, на бедро и ногу ему постоянно давило. Кроме того, несмотря на его усилия удержаться на носилках, он все время сползал и зря только тратил силы. Надо было что-то придумывать. Я снял свой брючный ремень.
– Это дело, – сразу понял Симагин.
– Теперь не сползет – мы перехватили грудь Виктора ремнем, пропустили концы под руки и закрепили на палках.
– Мозг! – высказался Котя по моему адресу. – Кардинальное решение…
– Помолчи, – одернул его Симагин.
– Бу-сделано, – с готовностью отозвался тот.
– Ты только не обижайся, Константин, – пояснил Симагин. – Но я тебе еще вчера сказал, что иногда лучше обойтись без слов, понял?
– Да бросьте вы! – попросил Виктор. – Не ругайтесь.
Двинулись дальше. Стало поровней, но эта поросшая лесом и высокой травой терраса тянулась вдоль реки, а нам надо было вверх, на голый хребет. Камней и тут было много, они таились в траве и корягах, но мы двигались осторожно и медленно, чтоб не запнуться, не перекосить ношу. Едва ли это все могло закончиться хорошо. Посоветоваться с Симагиным? Но о чем? Предложений-то у меня нет!
Сейчас от меня требуется единственное – «тянуть лямку». И я потянул, не обращая внимания на боль в пятке, на усталость. И постепенно даже приспособился думать и вспоминать.
…К концу той памятной встречи секретарь горкома дал мне пищу для новых размышлений. Разговор с ним закончился посреди кабинета. Смирнов, провожая меня, вдруг дотронулся до моего рукава.
– Скажите, Андрей Петрович, вы в каком настроении уходите? Только откровенно!
– Неважное у меня настроение, Владимир Иванович.
– Почему?
– Отдушины не вижу.
– Знаете, я тоже буду откровенным, – сказал Смирнов, внимательно всматриваясь в меня. – Я бы не стал тратить на вас столько времени, если б сразу не поверил, что вы сами откроете эту отдушину…
Он заметил мое недоумение, медленно прошелся по кабинету, думая о чем-то своем, остановился напротив меня.
– Партия! Понимаете… В партии, конечно, как везде, есть разные люди, даже очень, но в ней вечно зреют свежие силы. И за партией всегда последнее слово… А ваша беда, Андрей Петрович, в том, что вы одиночка, самодеятельный бунтарь.
– Я уже не один.
– Кто еще? – быстро спросил Смирнов.
– Вы.
Он хитро засмеялся. Я чувствовал, что давно пора уходить, а мы все говорили и говорили – о будущем заседании парткома, о нашем толковом начальнике сектора, об Игоре Никифорове и других конструкторах, вообще о кадрах и принципах их выдвижения, о брошюре Терещенко, – и то, что мы разговаривали стоя, лишь подчеркивало этот уместный в данном случае стиль.
– И все же очень уж сложна жизнь, – сделал я еще одну попытку поплакаться.
– А что вы имеете в виду?
– Вообще…
– Уверен, что тут у вас позиции зыбкие.
– То есть? – встрепенулся я, подумав: «Не станет же он доказывать, будто жизнь – простая штука!» А Смирнов почти закричал:
– Встречаясь с бюрократизмом, криводушием и беспринципностью, утешаем себя: «Сложная всё-таки эта штука – жизнь!» А ее просто надо называть – плохая жизнь! Вы заметили, что у нас повелось плохого человека называть «сложным»? Такие же комплименты мы, случается, жизни выдаем, фактически упрощая ее!..
– Это для меня очень интересная мысль, Владимир Иванович, честно скажу. Но это же действительность! И что делать?
– Прежде всего не стонать: «Ах, какая сложная жизнь!» Неужели я зря потратил время? – шутливо спросил он, и мне стало не по себе. А Смирнов уже серьезно продолжал: – Есть, конечно, усложнения жизни, основанные не на субъективных моментах, а на объективных исторических процессах, происходящих и в нашем обществе, и во всех обществах, существующих сейчас на земле. Понимаете?.. А впрочем, все в нашем мире связано, и тут тоже могут играть роль субъективные моменты, рождая самые неожиданные сложности, понимаете?..
Я почувствовал себя школьником. Что он имеет в виду? Атомных маньяков? Китайские загибоны? Поспешные реорганизации нашего дорогого?..
– И это тоже действительность! Да еще какая реальная! И как она, злодейка, великолепно не укладывается в нашу готовальню! Одним словом, неизящная действительность. Но паниковать не будем! Погодите – ка! – Смирнов прошел к шкафу и достал из него томик Ленина.
«Как в плохом кинофильме, – мелькнуло у меня. – Сейчас вытащит какую-нибудь общеизвестную цитату, которая относится к другому периоду, другой хозяйственной и политической обстановке».
Смирнов открыл книгу на закладке.
– Слушайте!.. «В тот переходный период, который мы переживаем, мы из этой мозаичной действительности не выскочим. Эту составленную из разнородных частей действительность отбросить нельзя, как бы она неизящна ни была, ни грана отсюда выбросить нельзя». А! Чувствуете? В этой мысли заложен великий оптимизм! Мужество, убежденность борца в исторической неизбежности победы! И реалистический, единственно правильный подход к сложностям большой действительности. А вы заметили, он говорит: «мы». Мы – значит партия, мы – коммунисты! И мы продолжаем переживать переходный период, и действительность пока не удается, так сказать, запрограммировать. Знаете, я не политик, я инженер, но над этим местом стоит подумать и политику и инженеру…
Он пожал мне руку, а я засек тогда том и страницу. Назавтра в библиотеке я выписал себе эту просторную бойцовскую мысль Ленина, которой мне, как я понял, все время не хватало, и крепко-накрепко запомнил ее.
Она не только помогала лечить суетливость души. Она заставляла думать об эффективности наших усилий в переделке этой «неизящной» действительности, об оптимальных методах использования общественных сил…
…Мои размышления прервал догнавший нас алтаец. Мы приостановились, радуясь про себя лишней возможности отдохнуть. Тобогоев тяжело дышал, его собака бегала вокруг, и было слышно, как она шуршит в траве. Ага, значит, мы все-таки поднялись немного – шум Тушкема стих, здесь его смягчали деревья, кусты и эта высокая трава. Тяжелые широкие листы ее были холодными с лица, а изнанка подбита мелким белым войлоком, теплым и мягким. Местная мать-и-мачеха? Алтаец рвал эти листы и прикладывал к лицу гладкой стороной. Я тоже попробовал – хорошо! С лица снимало жар, и не так хотелось пить.
Ознакомительная версия.