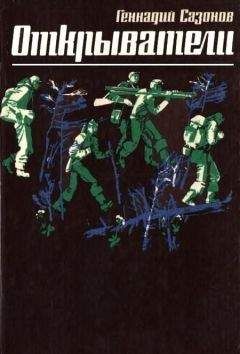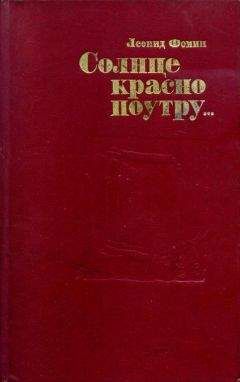А в Собачьем переулке, рядышком с речушкой, в тополевой, яблоневой тени прохладно.
Навстречу нам по проулку к Вшивому мостку двигается Степан Мелентьев, наш деревенский нищий, с козой на веревочке.
Степан Мелентьев тих, слаб и улыбчив. Передвигается он на четвереньках, отталкиваясь от земли пальцами, ног, не на коленях ползает, а высоко поднимая зад, отчего голова его почти у самой земли. Так ходить Степану пришлось с трех лет, когда загорелась их хата, и обезумевшая мать выхватила его из огня и выбросила в огород. Так она повыкидывала и дочерей своих, а сама не успела выскочить из пламени. Степан остался с сестренкой, на два года старше его. Сейчас Степану лет пятьдесят. И крупный, наверное, вышел бы мужик. Только руки его от такой нечеловеческой ходьбы стали как плавники, вывернулись ладошкой от себя, и пальцы не могли сгибаться-разгибаться, чтобы взять иголку или гвоздь. Степану село подарило козу с козленком, он и пасет их, обвязав вокруг пояса веревку, и медленно ползет вслед за козой по обочинам дорог, по канавам, вдоль изгородей. Коза словно понимает его, не залезает в кусты, а бредет медленно и чинно, обирая Травы.
На шее у Степана висит-покачивается сума из клеенки, сюда ему складывают подаяния — кто хлеб, кто кусок мяса или яйцо, пучок луку или редьку. Обходя деревню, Степан получает все: старую рубашку, поношенные чистые портки, платок на голову, чтобы солнышко не нагрело. Трудно и плохо говорит Степан, то ли мало слов он знает, то ли заикается, только тяжело разобрать его речь — то на козу он жалуется, то на лето жаркое, то вдруг среди разговора о сенокосе мать свою помянет и заплачет тихо.
Не пророчит он ничего, не предрекает, а иногда лишь поет невнятно, безголосо, печально. И бабы тогда вздыхают, отворачиваются, чтобы смахнуть слезу. И мужикам всегда становится как-то неудобно и неуютно, когда они видят Степана, неудобно за свою несокрушимую силу, за громадное свое здоровье, за то, что они легко идут по земле.
— Степан, — останавливается дед. — Здравствуй!
— А! Драствуй, — улыбается Степан, садится на землю и поднимает к деду свое серое пыльное лицо, — борода у тебя совсем белая. Снег… а? Холодно тебе в белой бороде. А у меня нет, — и он провел рукой но безволосому подбородку.
Так и сидит Степан на земле, раскинув ноги, в поднимает вверх к деду лицо свое с острым подбородком, прищурив левый глаз.
— Не болеешь, Степан? — склоняется к нему дед. — Ты к моей бабке зайди, одежу сменишь, слышишь? Погостюешь, творога поешь… малины, ежели хочешь.
— Можно… можно, — закивал головой Степан. — У меня, деда, — жалобно сказал он, — крыша в хате потекла и окошко разбито.
— Ладно, — отвечает дед, — послезавтра приду. Ты ел хоть сегодня?
— Да вот с козой не успел, — тихо говорит Степан, — убежала, и бродил за ней все утро.
— Идем со мной! — приказал дед. — К Антошкину.
Дом деда Антошкина тонет в зелени, в калиновых, в рябиновых кустах и весь одет в деревянные кружева. Ворота тоже резные, в рисунках. Тут зверь гонится за зверем, рыба за рыбкой и волк за козой. Наличники на окнах будто оживают в цветах и листьях, и цветы те неведомые и странные. Дед Антошкин острым ножом проникал в сердцевину дерева и, срывая с него кору, обнажал, освобождал душу его, и дерево становилось радостью, венком, цветком ласковым или зверем, нестрашным и потешным. Труба у дома резная, петух на ней горланит, с разинутым клювом и взъерошенным хвостом. Похож тот на деда Антошкина. А над второю трубой взгорбилась на метле ведьма с распущенными волосами.
Вошли во двор. В тени сарая над верстаком склонился Антошкин, мастерит своей бабке новую прялку. По двору меж ног Антошкина шныряли куры и пушистыми комочками прокатывались цыплята. Индюк прошагал по двору, забормотал, с огорода ему вспискнули индюшата.
— Мое почтение! — приподнял фуражку дедок. — Как здоровье, Филиппыч?
Дед Антошкин обращает к нам свое светлое, тонкое лицо в легкой, паутинистой бороде. Голова у него голая, блестящая и чуть желтоватая. Не испекло, не истрескало время его лицо, не запрятало в морщины, осталось оно неизменным, как сорок, как пятьдесят годов тому. Антошкину уже лет восемьдесят с лишком, но зубы еще целы.
— А, Захар, — улыбается Антошкин. — Внук-то скоро тебя ростом догонит.
Присели в тени, крутить цигарки начали, закурили — дым над головами закачался. Из села ягодой пахнуло, крыжовником и клубникой. Пчела пропела, петух крикнул, и бросились к нему куры.
— Полста лет тому, — выдохнул дым Антошкин, — лето таким стояло. Только гарь в воздухе носилась — леса, степь горели. Реки пересохли — голавли прямо на берег выпрыгивали. В лесу-то сушь, Захар?
— Сушь, — махнул рукой дедок. — Барсуки норы понарыли, а волчица с выводком к избе подходила — лакала воду из корыта.
— Гляди-ка, — удивляется Антошкин, — знать, засуха в нее вошла. Ты бы, Захар, людей каких взял али пацанов, чтоб в лесу роднички углубили — зверь без воды дохнет. Уйдет птица, червь весь лес обглодает.
Сидят старички, покуривают, неторопливо повели разговор — что было, что будет и вообще к чему жизнь приведет. Опустился дед Антошкин в погреб, в холодный ледяной полумрак, что с зимы здесь таился, вытащил корчагу медовухи, разлили кружки, крякнули, захорошели. Полную кружку поднесли Степану. Двумя руками принял ее Степан, удержал с трудом и потянул игристую бражку так, что заходил кадык.
— Голова кружится, — улыбается Степан. — Неспособный я бражничать, молоко я уважаю.
Трижды наполнялись кружки, хмель ударил в голову, потекли разговоры.
— Как сейчас помню, — гудит Антошкин в легкую бороду, — на спор с одним турком ведро вина выпил. Был я в ту пору в Турции, в Анатолии, в плену. Взяли меня незадолго до Шипки, скрутили веревкой и прогнали пеше, по пыльной дороге. В Турции, сам понимаешь, Захар, турки живут и всякий другой народ, армяне, ассирийцы, черкесы али кто. Так вот они меж собой по праздничкам резню устраивают. У нас, понимаешь, кулашный бой или борьба, а у них все больше ножик, кинжал острый. Я в кузне ковал и не столько плуги там, лемеха выковывал, сколько сабли и другое острие. Боролся я с имя по-русски, бросал на лопатки. Два года у них побыл, надоело, перебрался в Грецию, а оттуда пешком домой подался. Разглядел я всю эту Европу в упор…
— Так сколь же ты там был, Филиппыч? — спрашивает дедок.
— Околь трех лет. У французов побывал — бонжур, шер ами, у немцев — швайн, гутен морген, у поляков, мадьяр. Ни в одной ты книге не найдешь того, что я увидел во время скитаний. Думал, подохну от тоски, от говора ненашего, от речи, порядков чужих. Пешком шел. Палка у меня в руках, за спиной мешок. Приходишь в село ихнее, к пивной или складу какому: «Есть работа?» — «Русский?» — спрашивают. — «Русский», — говорю, — «Ну, давай, чисти нужник али свинарник!» «Ладно, — думаю, — меня такая работа не принизит, ибо я в чужой стороне». В русских, Захар, весь мир силу чует, побаивается задирать, но иной попадется — наизмывается вдосталь.