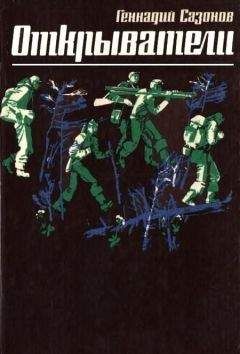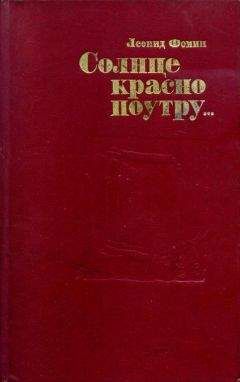— Разве мы вред кому причиняем? — удивленно спрашивает Антошкина Степан Мелентьев.
— Слабый завсегда завидует сильному, — рассуждает дед Антошкин. — Вольному да веселому.
Беседуют потихоньку старички, про турка да про немца, про финна да поляка. Степану все разговоры в диковинку, да и Никанор рот разинул — не могут они охватить всю ширину жизни.
— А я вот, дед Антошкин, из зверей только одну козу да корову знаю. Никогда тигру не видел, ни слона, — вздыхает Степан. — И не увижу. Когда человек ползает, видит он перед собой лягушню всякую да червей, падалицу да лист отмерший. Ты мне скажи, Филиппыч, какой мне смысл дальше жить и к чему я доползу при такой жизни?
— Любая жизнь человеческая — благо! — прогудел Антошкин. — Земля и солнце порождают жизнь из темноты и света, из холода и жара. Не из пустоты, не из тлена и навоза родится человек, и принадлежит он земле и не имеет права уйти в землю прежде времени…
Я тебе одно скажу — никто не может поднять руку на человека, чтобы его жизни вольно или невольно лишить.
— А тогда мне растолкуй, — зацепился дед. — Вот какая со мной история случилась.
И рассказал Антошкину о том, как стреляли его в лесу, и приводил в свидетели Никанора. Удивился сильно Степан, встал на четвереньки, пробежал двор из конца в конец, сел, вновь вскочил. Округлились, зажелтели у него глаза, рот округлился — не поняли, то ли крик, то ли стон рвется…
Подумал Антошкин, наполнил кружки бражкой.
— Нет, — заговорил он, — Никанор — дитя дитем, он палить в тебя не станет. Он собаку свою не пришиб, когда она окорок уволокла. Тут, Захар, кто-то из прежних твоих дружков объявился, кого ты, за жабры брал. Кто может быть — Пронькин, Мишин Гришка али Ягеря брат младшой, что на Соловках? В тебя пальнули Не за бревнышко, не за лесину какую — за то жизни не лишают, сам посуди. Иди в правление, объяви там, что в лесу злоумышленник скрывается, и облаву на него, как на волка. Никому больше говорить не надобно, у него дружки могут здесь оказаться: кто-то пищу, хлеб-воду ему в лес таскает, а?
— Я, дед Антошкин, прошуся у Захар Васильича и лес нонче, а он меня не пускает, — пожаловался Никанор. — Тем путем по следу хочу пройти. Скажи ему, дед Антошкин, чтоб отпустил меня, а?
— Где ты искать-то будешь, — раздумывает Антошкин. — Здесь всем народом надо прочесывать, а пред этим послушать на селе, какой разговор идет.
И тут Никанор вспомнил, как приходила утром Ягериха, грешила на Викулова, будто он в оврагах скрывается:
— Ягериха на путаный, противный след намекала, в сторону уводила, расшибиться мне на этом месте, — решает Никанор. — Дай я в лес пойду, проберусь вслед за Ягерем, там он на полянке сено косит.
— Нет, — запротивился дедок, — я тебя сначала в правление сдам. Дубы-то валил? Валил. Три ночи кряду я не спал? Не спал. Потому разговору нет. Пойдем… Я к тебе, Филиппыч, вечером загляну.
Добрались мы наконец до площади, раскинулась она, обожженная солнцем, горячая, пыльная, как печеная картошка. Собака пробежала трусцой, лениво перебирая лапами. Язык длинный высунула — жара! Воробьи взъерошились, клювы пораскрыли, дышат тяжело и чирикнуть не могут. А солнце тусклое, белесое, не круглое, как всегда, а в полнеба, разлилось в кипени, в тишине и бестучии неба. Бабка сухонькая, пыля юбкой, медленно, как во сне, двигалась через площадь, кашляла в такую-то жару. Из-за шихана, с запада, поднялось, набухло облачко, истаяло на глазах, в пар перешло.
Подошли мы к правлению, а оно пустое, там один лишь счетовод от жары изнемогает, воду из графит пьет, щелкает на счетах. Мухи натужно гудят, бьются в стекло.
— На сенокосе все, — задыхается счетовод. — Все! Один я здесь загибаюсь. Ты бы, старый, где-нибудь в тени прохлаждался али в погребе сидел, чем по жаре ползать?
— Дела у меня, — сурово говорит дед. — Край как надо председателя.
— Вечером, попозднее заходи, у них тут самый разговор. Планерка называется, брехаловка, ясно? Милиция приехала, — сообщает счетовод. — Молодой такой мильтон, щербатый. Пытал он здесь меня, кто в кого выстрел производил. Кто?! В кого! — вот вопрос.
— Включил лесопилку, — одернул его дед. — Не счетовод ты — мельница. Куда милиция делась? И почему ты в страду здеся тараканом сидишь?
— Я же говорю тебе, Захар Васильич, что милиция двинулась на сенокос. Там он будет следствие наводить. Ты, случаем, Захар Васильич, не слыхал, кто кого хотел угрохать и через кого? — склонил узенькую головку счетовод и захлюпал невысыхающим носом.
— Не слыхивал, — махнул рукой дед и в упор посмотрел на Никанора. — В лесу живу, отколь мне знать… Ты, Никанор, ступай себе домой без тревоги. А я милицию подожду.
Счетовод вышел на крыльцо.
— Захар Васильич, — притрагивается к деду Никанор, — дозволь, я с тобой, а? И другое дело — с лесом-то как? Дубки-то я ведь — того?
— Лесины я тебе дарю, — устало отвечает дед. — Дарю тебе, Никанор. Оба мы с тобой от души над ними потрудились, попотели, чего же теперь с ними делать?! А вот осенью, в сентябре, ты посадишь мне за Орловым Гнездом сотню саженцев. Три дня работы, ясно?
— Ясно, Захар Васильич.
— Три дня потрудишься, не сломаешься. Бумагу направлять никакую не стану. Если мы сейчас только заикнемся о том, что я тебя в лесу выловил, то враз тебя захомутают. Сейчас подозрение могет на невинного пасть в такой неразберихе. «Кто в кого», — передразнил он счетовода, который входил в комнату. — Иди домой, Никанор.
Никанор уже понял, что дело заварилось вкрутую, неясное и оттого тревожное и тяжелое и он, Никанор, попал в него невзначай, будто тень от заплывшего облачка.
— Нет, Захар Васильич, не уйду я от тебя, дедушка. Власти все перескажу, ибо наследил я немало. Лишний след только темноты напускает. Что выручить меня хочешь, низкий поклон. Спасибо тебе.
Никанор вышел из правления и забрался в тень, присел на пыльную реденькую травку. У ног его вытянулся Шарик, лизнул Никанорову руку, утомился, приклонил голову на лапы. Подошел дед, уселся рядом. Солнце перевалило далеко за полдень, раскалив землю и засушив травы, начало помаленьку краснеть, желтеть. Оно уже не занимало половину неба, а становилось круглым, похожим на всегдашнее солнце, а не на тот великий пожар, что раскинулся над землями и водами, над полями, лесами. Потянулись тени, загустели, и дед стал подремывать, размякший от бражки, жары и безделья. День даром прошел.
— Эх, жизнь-жизня, — бормочет дед, — как бы вымерло все — пустыня. Все-таки Ягеря это работа. Он в меня палил.
Вытягивались, распластывались по земле тени, и, пересекая их покой и прохладу, появились на улицах люди, старики и ребятишки, куры, гуси. Зашевелились и задвигались, а в небо поднялся и закружил коршун. Само собой, будто невзначай, как среди сна, в белесом небе проступило синькой, загустело и появилось облачко, закачалось и начало расти, набухать. В загустевшей тишине прорезались легкие звуки, шорохи и шепот, неясные, будто лепет, неуловимые трещинки, из которых просочился ветерок. Лизнул, тронул ветерок травы и погас, спрятался в тенях.