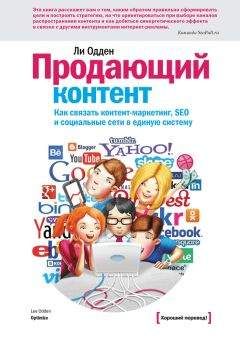Ознакомительная версия.
Необычное лицейское прозвище Матюшкина «Плыть хочется» точно отзовется в его судьбе: побывал он в морских кругосветках, видел берега Англии и Бразилии, бороздил воды Северного Ледовитого океана, участвовал в морской блокаде Дарданелл и Константинополя. Это к нему, счастливцу Федору Матюшкину, обращены пушкинские строки:
Завидую тебе, питомец моря смелый.
И все же однажды Пушкин тоже стоял на корабельной палубе, и паруса шумели над его головой.
Единственное морское путешествие поэта. Но, слава Богу, оно состоялось! И известно в подробностях благодаря письмам Пушкина. «С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. <…>
Из Керчи приехали мы в Кефу (Кафу, Феодосию. – Л. Ч.)… <…> Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю …» – пишет он брату Левушке.
Вид Гурзуфа
Весь день 15 августа 1820 года Пушкин вместе с Раевскими плывет из Тамани в Керчь, где посещает Митридатову гробницу. По дороге из Керчи в Феодосию путешественники осматривают развалины древней Пантикапеи на Золотом холме. И только на рассвете 18 августа из Феодосии отплывают в Гурзуф. На борту военного корвета[1], под качку волн и гудящий в парусах ветер, легли строки пушкинской элегии:
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…
Элегия увидела свет на страницах журнала «Сын Отечества» без подписи и с пометой: «Черное море. 1820. Сентябрь». Пушкин предполагал дать ей байроновский эпиграф: «Прощай, родная земля».
Спустя пять лет, в Михайловском, Пушкин опишет впечатления давнего плавания, с кинематографической четкостью врезавшиеся в его память:
«Из Азии переехали мы в Европу[2] на корабле. <…> Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы…. “Вот Чатырдаг”, сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-Даг… и кругом это синее, чистое небо и светлое море, и блеск и воздух полуденный…»
Прекрасны вы, брега Тавриды;
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я.
Через столетие Максимилиан Волошин, певец коктебельских берегов, вспомнит о том морском путешествии:
Эти пределы
священны уж тем,
что однажды под вечер
Пушкин на них поглядел с корабля
по дороге в Гурзуф…
На гурзуфской даче у Раевских (имении герцога Ришелье) Пушкин провел три счастливейших недели: «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского Lazzaroni (лаццарони, нищий. – итал.). Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря – и заслушивался целые часы».
В первых числах сентября Пушкин и Раевские (старший и младший) верхами отправились из Гурзуфа лесной тропой до Ялты, – тогда еще безвестной деревушки. Поднялись на Аутку, миновали Ореанду, Кореиз, Мисхор и спустились вниз до Алупки. Заночевали в татарском дворе и на следующий день отправились к Симеизу, к морскому побережью. Совершили подъем по Чертовой лестнице через скалы Кикенеиза. В Георгиевском монастыре остановились на ночлег в скромной монастырской гостинице. Утром осмотрели развалины древнего храма Артемиды и памятника дружбы: согласно мифу, Орест и Пилад спорили, кому принести себя в жертву богине-девственнице, и каждый хотел спасти жизнь друга.
«Я объехал полуденный берег, и путешествие Муравьева-Апостола оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход его по скалам Кикенеиза не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным, восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! сердце мое сжалось. Я начал уже тосковать о милом полудне – хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи, и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:
К чему холодные сомненья?
<Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья…>»
Далее от Георгиевского монастыря путь лежал на мыс Фиолент, оттуда по Балаклавской дороге, не заезжая в Севастополь[3], путники направились в Бахчисарай. Где – то в горах Пушкин простудился: лихорадка мучила его.
«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К*** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes (фонтаном слез. – Франц.). Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает…»
Скажи, Фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум…
«Растолкуй мне теперь, – просит он друга Дельвига в конце пространного послания, – почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием?.…»
А вот Онегину, в отличие от его творца, не судьба была увидеть живописные «брега Тавриды». Пушкин как-то «покаялся», что выбросил из романа главу о странствиях своего героя:
Он едет к берегам иным,
Он прибыл из Тамани в Крым,
Воображенья край священный
Он видит Керчь уединенный
На Митридатовом холме.
Памятный знак Пушкину в Крыму у стен Георгиевского монастыря.
2011 г. Фотография
Крымское путешествие Пушкина продолжилось: из Бахчисарая едет он в Симферополь. Пробыв там несколько дней, уезжает в Одессу, минуя Херсон и Николаев. И уже из Одессы, через Тирасполь и Бендеры, спешит к месту своего назначения – в Кишинев, куда переведено ведомство генерал-лейтенанта Инзова, наместника Бессарабии, – попечительный комитет о колонистах Южного края России.
О полуденном таврическом крае поэт вспоминал часто, мечтая променять на него «неволю невских берегов». «Среди моих мрачных сожалений, – признавался он, – меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму».
…Крым хранит память своего вдохновенного певца: улицы, музеи, гроты и даже тропы носят имя русского гения. Памятники Пушкину есть в Феодосии, Гурзуфе, Ялте… Памятный знак поэту воздвигли и в скалах Кикенеиза, близ Георгиевского монастыря. Как одному из самых чтимых его паломников.
«Военная Грузинская дорога»
Мне путешествие привычно
И днем и ночью – был бы путь.
А.С. Пушкин
Именно так назывался отрывок из «Путешествия в Арзрум», впервые увидевший свет в одном из номеров «Литературной газеты» за 1830 год. Через пять лет заметки об удивительной поездке в Тифлис и Арзрум, где поэту довелось пережить ни с чем не сравнимое «упоение в бою», появились на страницах «Современника».
Любопытно, изначально Пушкин приводил «мирные» причины, побудившие его к путешествию: «В 1829-м отправился я на Кавказ лечиться на водах. Находясь в таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда съездить для свидания с некоторыми из моих приятелей, и с братом, служившим тогда в Нижегородском гусарском полку».
На самом деле Пушкин собирался в Грузию раньше, в мае 1827-го. Писал о том брату Левушке: «Из Петербурга поеду или в чужие края, т. е. в Европу, или восвояси, т. е. во Псков, но вероятнее в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского». А в письме к приятелю не без иронии замечал, что брат «едет в Грузию, чтобы обновить увядшую душу».
Пушкин желал стать «свидетелем войны» и отправиться на Кавказ – театр боевых действий Русско-турецкой войны, и просил о том Государя. Но его ждал отказ.
Вот редкостный документ, датируемый мартом 1829-го – письмо М.Я. Фон-Фока, ведавшего аппаратом тайной полиции, своему шефу Бенкендорфу: «…Господин поэт столь же опасен <для государства>, как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно!.. <Предоставьте ему обойти свет, искать дев, поэтических вдохновений и – игры> (франц.)».
Ознакомительная версия.