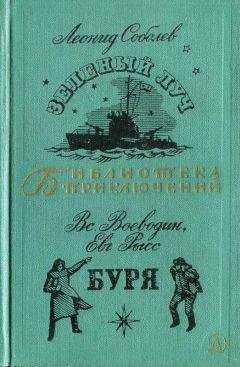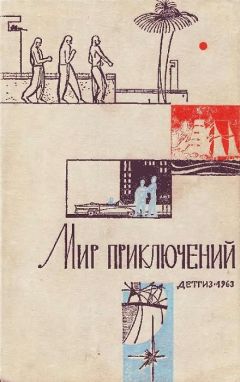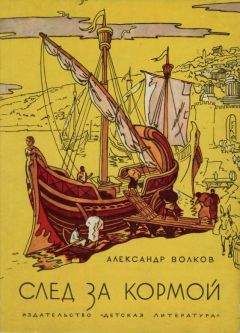— Бывает, — согласился Овчаренко. — Трепачи по всему свету водятся. А насчет Слюсарева я согласен. Мне он тоже нравится. Когда случилась эта история с Мацейсом и Шкебиным, он, во-первых, сумел их все-таки выследить, и не его вина, что немного поздно; во-вторых, — простите, товарищи, — когда вы на него наседали и требовали, чтобы он вам рассказал, что и как, уверяю вас, ему было нелегко. И я думаю, вы сами теперь согласитесь, что поступал он правильно.
Все засмеялись.
— Глушили парня здорово, — пробасил Полтора Семена.
— Да, — сказал Донейко. — Налегли мы тогда на него. Прямо так навалились, что лучше не надо. А как он стоял, Свистунов, помнишь? Красный, растерянный, врать-то он, по совести говоря, не умеет, по виду его и осел бы понял, что что-то неладно, а молчит. С характером. Товарищей потерять всякому страшно, а такому мальчишке особенно. Наверное, уж ему представлялось, что никто с ним не говорит и все его презирают. Я и не спорю. Он молодец, что смолчал.
— Вы скажите, — настаивал Овчаренко, — правы были вы, когда к нему приставали?
— Да знаете, — Донейко замялся, — пожалуй, что и не правы. Только очень уж любопытно было.
Все засмеялись, но смех сразу же оборвался. Вошел капитан.
— О чем беседуете? — спросил он.
— О Слюсареве.
— А он спит?
— Спит.
— Ничего парнишка, — сказал капитан. — Когда выбрасывались на банку, я его спрашиваю: «Боитесь?» А он мне и отвечает: «Боюсь». Я даже растерялся. «А держаться, говорю, будете?» — «Буду». Это мне понравилось.
Тральщик задрожал сильнее. Он двинулся. Я это точно почувствовал. Он двинулся так сильно, что я ухватился за край койки. Снова замерло судно, и только мелкою дрожью дрожали перегородки. Понимая, что движение мое было видно снизу, я привстал, как будто только проснулся, и свесил ноги вниз, кулаком протирая глаза.
— Проснулся? — спросил Свистунов. — А мы уж решили, что ты там умер.
Вероятно, оттого, что я долго лежал неподвижно, у меня немного кружилась голова и горело лицо, и удивительную слабость чувствовал я в руках и в ногах.
— Вахту не проспал? — спросил я нарочито сонным голосом.
— Проспал бы, так разбудили б, — сказал Донейко,
Я слез с койки, ноги у меня подогнулись, и я сразу сел, чтобы скрыть охватившую меня слабость.
— Придется вам нас немного пораньше сменить, — сказал капитан, — чтоб Фетюкович не пропустил передачу.
Мы с Овчаренко оделись и пошли на вахту. В коридоре было темно. Когда Овчаренко зажег спичку, я увидел, что около двери на палубу тихо плескалась черная вода. Я не предполагал, что за время моего сна она зашла так далеко. Зыбь побежала по воде, когда Овчаренко открыл дверь. Снег ворвался в коридор, снежинки ринулись на нас, как будто они ждали, сидя в засаде.
— Опять пурга, — сказал Овчаренко.
Палуба была уже вся под водой. Из воды торчали только полубак и надстройка. Я стоял, ожидая, пока Овчаренко поднимется по трапу, когда увидал за надстройкой огромную водяную стену. Она рухнула, разбившись о рулевую рубку, долетела до полубака и притиснула меня к стене с такой силой, что мне казалось — я буду сейчас расплющен. Ухватившись за ступеньку трапа, я стоял не дыша, ожидая, пока вода схлынет. Она схлынула с шумом, и сквозь этот шум я с трудом услыхал крик: «Слюсарев, Слюсарев!» Я поднял голову. Это кричал Овчаренко. Перегнувшись через поручни, он звал меня.
Слабость моя не проходила. Страшное усилие нужно было мне сделать, чтобы заставить себя полезть по скользким крутым ступенькам. Овчаренко мне подал руку. Я влез на полубак, и было самое время, потому что снова рухнула водяная стена. Волна промчалась над рубкой, и гребень ее ринулся на полубак и с ног до головы окатил нас водой. Вцепившись в поручни, я опять не дышал, но вот волна схлынула, снег с яростью колол мне лицо, капитан что-то кричал нам, но мы не разбирали слов и только видели — он указывает пальцем на надстройку.
Страшно жалкой казалась надстройка, удивительный домик, выросший из ревущего моря.
— Труба, — долетел до меня голос капитана.
Я тогда только заметил, что за рулевой рубкой больше не было судовой трубы. Фетюкович спустился вниз по трапу. Я пошел к борту, туда, где полагалось стоять вахтенному. Стало тише. Мелкие волны бились о тральщик, и еще далеко был идущий на нас гигантский вал. В тишине бесконечным потоком мчались снежинки, били в лицо, кружились, проносились дальше, таяли на палубе. Но мне было тепло. Мне было даже жарко. У меня горело лицо, и вода, струйкой лившаяся по спине, мне совсем не казалась холодной. Рухнул и этот вал и опять окатил нас всех и прошел дальше, как гигант, не заметивший, что затоптал пигмея. Капитан ушел вниз, и мы остались с Овчаренко вдвоем.
Берега за снегом совсем не было видно. Только миллионы снежинок мчались там, где, я знал, тянется каменная гряда. И за кормой и перед носом судна был тот же белый снег без конца, точно белая матовая стена. А направо из этого белого хаоса выделялись ясно и отчетливо два черных камня, два острова, две скалы. Старовер поднимал лад снегом свои широкие плечи, как будто гордясь своей несокрушимостью. Горбатая черная остроносая Ведьма задыхалась от смеха, прикрывшись белым снежным плащом. Минута шла за минутой. Я был уже весь мокр и не боялся волны. В нескольких шагах от меня Овчаренко мерно шагал по полубаку и брался за поручни каждый раз, когда находила волна. Я вспоминал рейс, катастрофу, шторм, моих товарищей.
«Положение у нас совсем паршивое, — думал я, — и, наверное, у Донейко, и у Свистунова, и у кока, и даже у капитана сердце замирает каждый раз, как находит большой вал и тральщик вздрагивает на банке. А так, по виду, совсем ничего не скажешь. Будто они не боятся. Вот мне, например, очень страшно, я очень боюсь. Что меня удерживает от того, чтобы закричать, закрыть глаза, вообще сделать то, что я естественно должен был бы сделать. Стыд? Стыд перед товарищами, которые подумают, что я трус? Но ведь, конечно, все они понимают, что я боюсь, и сами они боятся, и ничего в этом, в сущности, стыдного нет. Что ж, нам радоваться тому, что помрем, что ли? Что касается капитана и Овчаренко — понятно. Он помполит, он обязан держать политико-моральное состояние на высоком уровне. Значит, он, естественно, делает вид, что ему не страшно, что опасности нет, что вообще волноваться нечего. Ну, а остальные? Рядовые матросы, засольщик, повар?» Я очень долго думал об этом. Мысли мои то двигались медленно и трудно, то вдруг начинали мчаться, обгоняя друг друга, так что я терял нить.
«Это, — думал я, — особая совершенно выучка. Вот, скажем, Донейко или Свистунов. С каждым из них бывало, что помполит или капитан посвящал его одного в какое-нибудь мероприятие и говорил: надо, мол, провести на твою ответственность. И вот в этот момент каждый из них уже чувствовал себя как бы вторым помполитом. Он в этом определенном вопросе как бы отвечал за мысли команды. И это впитывается в кровь. Полтора Семена, например, наверное, никогда не получал каких-нибудь специальных заданий от Студенцова или Овчаренко, но все равно у него уже воспринято от товарищей чувство ответственности за состояние команды. В условиях катастрофы, в условиях опасности, естественно, оно обостряется. Как бы там кто ни боялся, он все равно больше всего боится других напугать. Он будет скрывать от других свои мысли и делать вид, что все совершенно благополучно, как будто он помполит. Десять помполитов, десять воспитателей и ни одного воспитываемого».