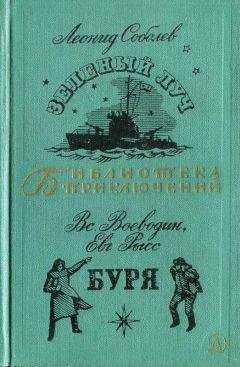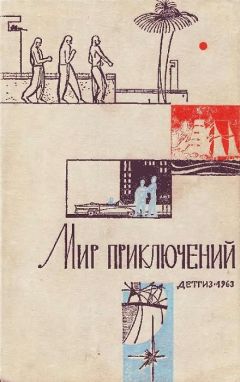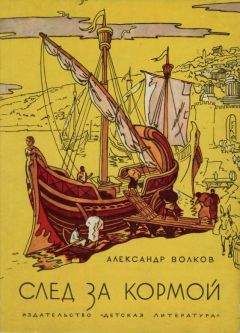Я натаскал валежнику, принес воды и растянул с Иваном Сергеичем палатку. На этом, считал я, мои обязанности закончены. Тогда я взял свой бушлат, выбрал елку поразвесистей и улегся на мху у корневища, где посуше. Мне нужно было все-таки понять: что же произошло? Что произошло такое, отчего она стала шарахаться от меня, да, именно шарахаться? Лежа под елочкой, я пришел к невеселому для себя выводу, что дело объясняется чрезвычайно просто. Ей, как говорится, было плевать на меня — вот и все. А то, что произошло ночью, объяснялось еще проще. Когда я взял и поцеловал ее руку, она просто перепугалась. Она перепугалась, как любая девчонка на ее месте, и не знала, что ей делать, — выскочить из палатки, разбудить Ивана Сергеича или же по-товарищески, попросту сказать: «Женя, голубчик, идите-ка к себе. День завтра трудный». В конце концов я все-таки не хулиган, не Аркашка, который на моих глазах приставал к ней в гостинице, и она это понимает.
На каждой хвоинке, на каждой ветке висели крупные дождевые капли. Я лежал под елкой, и время от времени они сваливались на меня, на лоб, на глаза, забирались под воротник, и такая меня разбирала обида, что я даже не укрывался бушлатом. Пускай капают.
Я видел, как Лиза отошла от примуса и, поискав меня глазами, крикнула: «Идите обедать!» Я хотел ответить: я сыт, потом поем, — но подумал, что излишнее ломанье ни к чему. Мы поели бобов и мясных консервов, чай я не стал пить, а выпил сырой воды и пошел обратно к себе под елку. Я в самом деле хотел спать, — устал, да и в таком собачьем настроении лучше всего поскорей заснуть. Но только я подложил под голову мху посуше, совсем близко захрустел валежник. Я по шагам слышал, что это она идет, и сразу же затосковал и обозлился. Что ей нужно?
— Если вы хотите лечь совсем, то подстелите брезент. Земля все-таки сырая, — сказала Лиза.
— Спасибо.
Она стояла около меня, покусывая сломанную веточку, и не уходила. Что ей еще нужно?
— Очень устали?
— Устал, конечно.
— Ночь, наверно, будет холодная. Может быть, вы ляжете в палатке?
Я взглянул на нее. Она теребила зубами свой сучок, смотрела в сторону, и вид у нее был не то что смущенный, а просто жалкий. В чем дело?
— Я-то холода не боюсь, — сказала она. — Приходилось ночевать даже при заморозках…
Так вот в чем дело! Стало быть, это нужно было понимать так: «Я холода не боюсь; если вы боитесь, ночуйте в палатке, а я устроюсь здесь».
— Нет уж, спасибо. Я как-нибудь сам устроюсь.
Я видел, как с ее физиономии слетело всякое замешательство, и сразу же она густо покраснела именно потому, что я заметил, как ее обрадовал мой ответ. Не так-то просто сказать малознакомому человеку: «Знаете, голубчик, от вас лучше держаться подальше — вы себе здесь, а я там». Но она все-таки не уходила. Что ей еще нужно, в конце концов?
— Вы на меня сердитесь, Женя? — сказала она.
Я вздрогнул.
— За что?
За то, что она шарахается от меня, хотя я ничем ее не обидел и как дурак полночи провалялся в траве у палатки? Или за то, что она поругалась со мной в лодке из-за того, кому грести?
— Не сердитесь, — повторила она, старательно уклоняясь от моего взгляда. И вдруг с какой-то особенной злостью сказала: — Все у меня спуталось в голове! Сама ничего не могу понять.
Сразу же она ушла в свою палатку, а я разостлал под елочкой брезент, накрылся бушлатиком и завалился. Хватит с меня. Я больше не хотел думать о том, что происходит.
На другой день все опять пошло как по расписанию. С утра небольшой разговор о видах на погоду (ни слова о том, как спалось, холодно было или жарко), всё о той же лапше, о том, что приготовить на завтрак, и такое же молчание в лодке. На весла, впрочем, она не совалась, с этим-то было покончено.
Небольшое различие между нынешним утром и вчерашним было еще в том, что вчера она как запряталась за свои бидоны, так и не вылезала из-за них, а сегодня, сидя за рулем, я время от времени чувствовал на себе ее пристальный взгляд из-за плеча нашего лодочника. Стоило мне обернуться — пусто, опять спряталась или смотрит на мох да на ельник по берегам. Здорово меня бесили эти жмурки-прятки.
Но со второй половины дня обо всех этих делах уже не приходилось думать. Река мало-помалу расширилась, берега стали совсем болотистыми. Крепкий ветерок начал прихватывать так, что рябь заходила по воде косяками, будто какие-то огромные невидимки-рыбы гонялись друг за другом на самой поверхности реки. Мы обогнули заболоченный островок, и вдруг прямо по курсу открылось озеро.
Каким огромным оно казалось! Был виден только его левый берег, постепенно исчезавший в тумане, — прямо и направо оно уходило черт знает в какую даль. Мы точно опять вышли к морю.
Лодка наша сидела в воде чуть ли не по самые борта: груза в ней было порядочно. Мы только-только вышли из реки, и нас поддало волной так, что Иван Сергеич взмахнул по воздуху веслами, точно крылышками, а у меня насквозь промокла вся рубаха.
— Где лагерь? — крикнул я. — Покажите, куда держать.
Лиза махнула рукой левее, в туман. Я переложил руль. Нас еще раз поддало и стало валить на борт, трясти, подбрасывать, зарывать носом в волну, ящики, сваленные друг на дружку, так и затрещали.
«Плохо дело, — подумал я. — Крупка, очень свободно, может опять поплавать. Не едать геологам каши».
И вот, когда я изо всех сил старался выровнять лодку, не уклоняясь от курса, держать носом на волну, я опять увидел Лизу, которая смотрела на меня из-за плеча Ивана Сергеича. Она смотрела с нескрываемой тревогой и спряталась, как только я на нее взглянул. Я усмехнулся про себя: девчонка нервничает, боится, как бы не поплыть. Тут нас опять поддало, и я посмотрел под ноги и обмер. В лодке было, наверное, ведер десять воды, при таком грузе это дело нешуточное.
Сразу же знакомое чувство тошноты подступило к горлу, и все тело обмякло, руки и ноги стали точно резиновыми.
«Не дойти, — подумал я. — Ни за что не дойти. Надо к берегу».
Это озеро в тумане было совсем как море. Берег чуть виднелся в полумиле от нас. Опять на меня посмотрели, и теперь я сам пригнул голову ниже, спрятал лицо, потому что знал: в лице у меня ни кровинки.
— Так нельзя! — крикнула Лиза. — В лодке вода. Держите по волне к берегу.
— Обойдется, — проворчал я, продолжая вести лодку прежним курсом.
— Вы слышите, что я вам говорю? В лодке вода.
— Я говорю — обойдется.
Я сдавил руль так, что у меня пальцы свело. Иначе они бы тряслись, я знал наверняка, что иначе они бы тряслись. Я не смотрел на Лизу, я был не уверен, смогу ли я справиться со своим лицом.