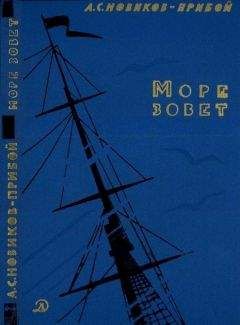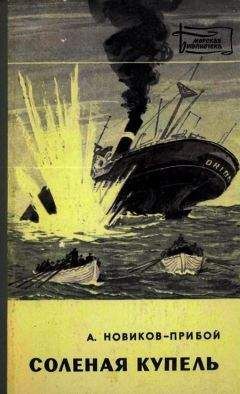— А вы его?
— Само собой разумеется, что он не остается без ответа. Его нельзя не любить. Это удивительный человек! Смелый, прямой и красавец! Для меня мучительны те часы, когда он находится на службе. Ах, как хорошо быть постоянно вместе с любимым человеком!
Закинув вверх руки, Амелия поправляет пушистые волосы, необыкновенно привлекательная в сиянии луны.
— Нам пора идти, — подавленно говорю я, чувствуя зависть к своему сопернику.
— Да, пора, — отвечает она с обидой в голосе.
Но мы продолжаем сидеть, словно пригвожденные к берегу.
— Я была знакома со многими мужчинами. Некоторые из них мне очень нравились. Но теперь все они кажутся мне ничтожными в сравнении с моим мужем…
Мне показалось, что она издевается надо мною, издевается над моими лучшими чувствами и над тем, что пришлось пережить из-за нее. Поднявшись, я приближаюсь к ней и сурово спрашиваю:
— Неужели в сравнении с вашим мужем все мужчины — ничтожество?
Она тоже встает, выпрямляется и, нахмурив брови, похожие теперь на раскинутые крылья чайки, смотрит на меня в упор, упрямо повторяя:
— Все, все!.. И я презираю их теперь!
Я крепко схватил Амелию за руки, настолько взбешенный, что готов был швырнуть ее в море.
— И меня в том числе?
— Пустите! Больно! — вскрикнула она, тщетно вырываясь.
— Отвечайте!
— Антон! Милый, какой вы сильный!..
Амелия запрокинула голову, прикрыв ресницами глаза, словно стыдясь лунного света.
Я обхватил ее за талию, привлек к себе, близко заглянул в лицо, ощущая ее дыхание и трепет вздрагивающего тела…
Пустынное, в блеске высоко поднявшейся луны, море сладко дремлет, безмятежно раскинувшись, счастливо излучаясь, словно от красивых сновидений. Занимается заря, разливаясь по краю неба узкой розоватой полосой. В предрассветном воздухе — бодрящая свежесть. Всюду разлита торжественная тишина. Только у самого берега, вдоль которого, возвращаясь в город, мы идем с Амелией, пенистые волны, похожие на взбитые сливки, выкатываясь на отмель, безумолчно мурлычут, как обласканный кот, свою мелодичную песню.
Во всем теле у меня усталость, но на душе легко и отрадно: музыкой переливаются неясные чувства, реют неуловимые мысли, точно светлячки в жаркие тропические ночи.
— Дальше не нужно провожать, — останавливается Амелия, когда мы приблизились к городу.
— Хорошо, — соглашаюсь я, глядя на нее, утомленную, но счастливо улыбающуюся.
Прощаясь, она бросается мне на шею и шепчет:
— Если бы вы только знали, как мне не хочется возвращаться к мужу!.. Я терпеть его не могу! Милый! Почему вы тогда ни разу не схватили меня так сильно, как теперь? Почему вы тогда заговорили о тюрьме? Ведь могло бы выйти все по-иному. Мы родились с вами друг для друга… Но об этом после… Завтра я приду к вам на то же место… Ждите…
Залитая блеском загорающейся зари, Амелия уходит какой-то особой, крадущейся походкой, осторожно стуча каблучками по асфальту тротуара и немного согнувшись, словно чувствуя на себе греховную тяжесть, а я, стоя на одном месте, провожаю ее глазами, пока она не сворачивает за угол.
Мне не хочется спать. Вернувшись к берегу, я брожу по извилистой кайме ракушек, брожу без мыслей и дум, внимая лишь тихой музыке волн. Гаснут последние звезды, бледнеет, словно умирая, луна, а восток разгорается все сильнее, отбрасывая лучи из пурпура и золота. Море, освобождаясь от покрова ночи, пламенеет; по зеркальной глади, сплетаясь в причудливые тона, разливаются цветистые краски; небо, голубея, поднимается выше; раздвигается, огнисто сверкая, горизонт. Ширится и моя душа, просветленная и бодрая, словно орошенная золотым дождем, становится всеобъемлющей, сливаясь с вольным простором, пронизанным ярким светом показавшегося солнца.
Море… зовет.
Быстро, словно боясь опоздать, я иду в матросский дом наниматься на корабль.
Матрос второй статьи Круглов, небольшой, тощий, в темно-серой шинели и желтом башлыке, выйдя из экипажа на двор, остановился. Посмотрел вокруг. Просторный двор, обнесенный высокой каменной стеной, был пуст. В воздухе чувствовался сильный мороз. Солнце, не успев подняться, уже опускалось, точно сознавая, что все равно не согреть холодной земли. Чистый, с голубоватым отливом, снег искрился алмазным блеском. Огромное красное здание экипажа покрылось седым инеем.
Круглов широко улыбнулся, хлопнул себя по бедрам и, подпрыгнув для чего-то, точно козел, быстро побежал к кухне, хрустя снегом.
— Как, браток, приготовил? — войдя на кухню, спросил он у кока, беспечно стоявшего около камбуза с дымящеюся цигаркой в зубах.
— За мешком стоит, — равнодушно ответил тот, кивнув головой в угол.
Круглов вытащил из указанного места котелок, наполненный остатками матросского супа, и, увидев, что суп без жира, упрекнул:
— Не подкрасил, идол!
— Это за семишник-то? — усмехнувшись, спросил кок.
— Рассуди, воловья голова, жалованье-то какое я получаю…
— Это меня не касается.
— Не для себя ведь я… А ежели с тобою этакое приключится…
— Со мною?
— Да.
Кок, сытый и плотный, сочно заржал.
— Приключится? Скажешь тоже? Ах ты недоквашенный! Лучше плати-ка скорее, а то ничего не получишь.
Обиженный и недовольный, Круглов отдал коку две копейки, спрятал котелок под полу шинели и, поддерживая его через карман левой рукой, вышел на двор. Благополучно миновал дежурных, стоящих у ворот. На улице встречались матросы, женщины, штатские. Разговоры, лай собак, скрип саней, стук лошадиных копыт, хлопанье дверей — все это наполняло воздух глухими звуками жизни.
Весело шел Круглов, поглядывая по сторонам и стараясь не расплескать супа. Но, свертывая с главной улицы в переулок, он столкнулся с капитаном второго ранга Шварцем, вышедшим из-за угла. Офицер был известен своею строгостью, и матрос, увидев его, невольно вздрогнул. Быстро взмахнул правую руку к фуражке, а другую машинально дернул из кармана, облив супом черные брюки.
— Эй, как тебя, что это ты пролил? — остановившись, спросил Шварц.
Матрос тоже остановился, смущенно глядя на офицера и не зная, что сказать.
— Почему же не отвечаешь?
— Жидкость, ваше высокоблагородье…
— Что?..
— Виноват… это… это… — забормотал Круглов и, словно подавившись словами, замолк.
Приблизившись, офицер откинул полу его шинели.
— Ах, вот что у тебя!
А в карманах нащупал куски хлеба.
Матросу стало жарко, точно он попал в натопленную баню.
— Твой билет! — сердито крикнул офицер, обсасывая обледеневшие усы.