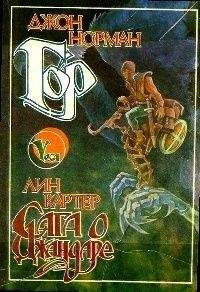Я должен был складывать эти удивительные зажимки в кучи по сто сорок четыре штуки в каждой. Когда я нагромождал такую кучку, ко мне неизменно подходил надзиратель и спрашивал, вполне ли я уверен, что здесь действительно сто сорок четыре зажимки, и не просчитался ли я.
– Я сосчитал совершенно точно. Здесь ровно сто сорок четыре штуки.
– И это верно? Могу я положиться на ваши слова?
Предлагая этот вопрос, он смотрел на меня с такой тревогой, что я и сам начинал сомневаться, действительно ли здесь ровно сто сорок четыре зажимки. Поэтому я сказал ему, что, может быть, будет лучше пересчитать их еще раз. Чиновник ответил, что это действительно было бы лучше, чтобы не произошло случайно какой-нибудь ошибки; если зажимки сочтены неверно, может выйти неприятная история и он потеряет еще, чего доброго, свое место. А это было бы ему крайне неприятно: ведь у него на иждивении трое детей и престарелая мать.
Когда я пересчитал кучку во второй раз и убедился в правильности своего подсчета, ко мне опять подошел чиновник. Я заметил, что он опять сложил свое лицо в тревожные складки, и, чтобы рассеять его тревогу и показать ему, с каким участием я к нему отношусь, я сказал ему прежде, чем он успел открыть рот:
– Мне кажется, лучше пересчитать еще раз: возможно, что я опять обчелся на одну или даже две зажимки.
Его озабоченное лицо осветилось такой сияющей улыбкой, как будто ему кто-то сказал, что он через четыре недели получит наследство в пятьдесят тысяч франков.
– Да, проверьте, ради бога, пересчитайте еще раз, потому что, если бы здесь оказалось на одну зажимку меньше или больше и господин директор сделал бы мне замечание, я даже не знаю, что бы я стал делать. Меня, несомненно, уволили бы со службы, а ведь у меня ребятишки, моя жена не совсем здорова, и моя старая мать… О, сочтите точно сто сорок четыре – ровно двенадцать дюжин. Может быть, вы лучше будете считать их дюжинами, тогда вы не так легко собьетесь со счета.
К концу моего пребывания в тюрьме я насчитал всего-навсего три кучки зажимок. Я и сейчас еще не уверен, не обчелся ли на одну зажимку в каждой из них. Но я питаю скромную надежду, что верный своему долгу чиновник и честный кормилец своей семьи заставлял других заключенных еще две недели пересчитывать эти три кучки. Поэтому я снимаю с себя ответственность на тот случай, если этого человека все-таки уволили.
Я получил сорок сантимов за свою работу. Одно я знаю наверняка: если я еще два раза проеду без билета по французской железной дороге и буду пойман, Франция неминуемо обанкротится. Этого не вынесет ни одно государство, будь оно даже в несравненно лучшем экономическом положении, чем Франция.
Поэтому я решил покинуть Францию как можно скорее.
Не могу, впрочем, умолчать, что забота о благосостоянии французской республики и об упорядочении ее финансового положения была не единственной заботой, побудившей меня к поспешному отъезду. Дело в том, что при освобождении мне пришлось выслушать новое предостережение. И на этот раз очень строгое. Если бы по истечении четырнадцати дней меня нашли в пределах Франции, я получил бы год тюрьмы и был бы выслан в Германию. Это ввело бы бедную страну в неисчислимые расходы, и я проникся чувством искреннего сострадания к ней.
Я отправился на юг, по дорогам, которые так же стары, как история европейских народов. Я сохранил свою новую национальность. И если у меня спрашивали, кто я, отвечал очень сухо:
– Бош.
Никто не ставил мне этого в вину. Всюду я получал кров и пищу, у каждого крестьянина. Казалось, что я инстинктивно выбрал самый верный путь. Все ненавидели американцев. Все бранили и проклинали их. Называли их разбойниками, чеканящими на крови французских солдат свои доллары, головорезами и ростовщиками, намеревавшимися и впредь выжимать свои доллары из слез осиротевших отцов и матерей. Говорили, что они никогда не наполнят свою ненасытную пасть, хотя уже задыхаются под грудами золота.
– Если бы нам попался хоть один из этих американских ростовщиков, мы убили бы его цепом, как старую собаку, лучшей доли он и не заслуживает, – говорили крестьяне.
Черт побери, как же мне повезло!
– Другое дело – боши. Ладно, мы вели с ними войну, настоящую, честную войну. Мы отняли у них свой Эльзас. И они вполне согласны с этим. Они признали, что мы правы. И теперь этим бедным дьяволам приходится так же скверно, как и нам. Собаки-американцы хватают их за глотку и тащат оттуда последнюю обглоданную кость. Они умирают с голоду, бедные боши. Мы охотно поделились бы с ними, но ведь у нас самих ничего нет: проклятый американец снял с нас последнюю сорочку. И зачем только он забрался в Европу? Помочь нам? Как бы не так! Чтоб стянуть с нас последнюю нитку. Ведь мы же должны расплачиваться за все. Мы и бедные боши.
– Уже по одному вашему виду можно судить, как плохо живется бедным бошам. Вы выглядите совсем изголодавшимся. Кушайте же побольше. Выбирайте себе лучший кусок. Вы уже сыты? О, не может быть! Если в Германии все такие тощие, как вы, то дело ваше плохо. Впрочем, и у нас осталось немного. Куда же вы собираетесь? В Испанию? Это правильно. Это разумно. У них осталось побольше нашего. Они не воевали. Но и их американец обернул вокруг пальца Кубой и Филиппинами. Вот вам опять пример. Всегда он обворовывает нас, бедных европейцев. Как будто ему своего мало. Нет, он идет сюда воровать и мошенничать. Ешьте, пейте. Не смотрите, что мы уже кончили. У нас еще кое-что есть, и время от времени мы можем наедаться досыта. А у вас, бедных бошей, детишки умирают с голоду.
…А если кто-нибудь из наших скопит себе немного деньжат и захочет поехать в Америку, чтоб заработать там несколько долларов и послать их потом своим родным, – они запирают перед ним дверь, эти бандиты. Они отобрали землю у бедных индейцев и теперь не впускают никого, чтобы кататься самим как сыр в масле. Проклятые собаки! Как будто к ним едут за подарками! Нет, нашей молодежи приходится делать там самую грязную работу, за которую не хочет браться ни один американец.
…Знаете что, вы могли бы отлично поработать и здесь несколько недель. За это время вы успеете подкрепиться, набраться сил. Конечно, много платить мы вам не сможем, тридцать франков в месяц, восемь франков в неделю, да кроме того постель и стол. До войны мы платили только три франка в неделю, но теперь все так безбожно вздорожало. Во время войны у нас тоже жил один бош. Военнопленный. Он был такой прилежный человек. Все мы были очень опечалены, когда он уезжал домой. Скажи-ка, Антуан, – Вильгельм, наш бош, ведь он был прилежный парень? А как добросовестно он работал! Мы все его любили, другие даже говорили, что мы уж слишком хорошо к нему относимся: мы и вправду давали ему все, что могли. Он ел то же, что и мы, мы не делали никакой разницы.