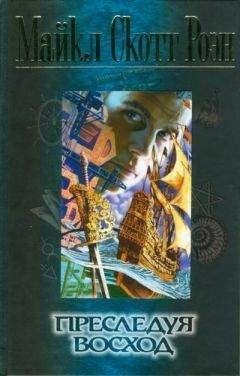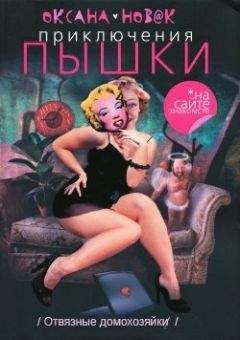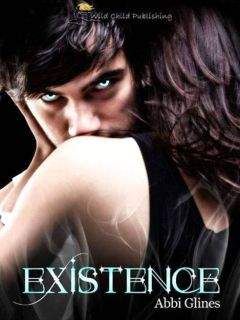За исключением одного-двух грузовиков, Дунайская улица была пуста, и я мог снять ногу со сцепления. Передо мной открылась подходящая боковая улочка, и, не раздумывая, я свернул туда и зигзагами поехал по ней, мимо задних фасадов складов с крышами, предостерегающе усыпанными рядами острых шипов или битым стеклом, холодно поблескивавшим в тусклом свете. Оттуда я выбрался на другую улицу, вдоль которой тянулись заколоченные окна заброшенной фабрики, а затем оказался на развилке, где мои инстинкты на минуту заколебались. Я опустил стекло и ощутил запах моря, услышал крики чаек. Подняв глаза, я увидел, как они кружат на фоне грозного неба. Я круто повернул руль, и машина прямо-таки полетела по булыжнику. Там, в конце улицы, волшебный лес мачт вставал прямо на фоне освещенного горизонта.
Я прибавил скорость и повернул, скрипнув шинами, к верфи. Надо мной нависали высокие темные корпуса, в последних отблесках теплого дневного света они выглядели совсем не устрашающе, выкрашенные яркой краской, даже с тонкой позолоченной отделкой. Вдоль лееров сочно блестела бронзовая отделка, а вокруг иллюминаторов на некоторых малых судах — и более современные украшения. Но на кораблях почти не было видно признаков жизни, лишь кое-где кто-то возился с такелажем или стоял облокотившись на поручни, да группа мужчин разгружала одно из судов, бросая тюки на берег в сеть, свисавшую с конца гика, — такое я видел разве что на фотографиях девятнадцатого века. Подвода, запряженная лошадьми, стояла наготове, чтобы принять груз, однако, когда я проезжал мимо, и люди, и лошадь смотрели на меня с совершенным безразличием. Казалось, верфи тянутся непрерывно, насколько хватало глаз, во всех направлениях. Но на кирпиче центрального здания, почти выцветшая и раскрошившаяся за сто лет пребывания под солнцем и соленым ветром, виднелась надпись большими буквами в викторианском стиле: «РЫБАЦКАЯ ВЕРФЬ». А под ней, с трудом различимые, были стрелки, показывавшие направо и налево, а под ними — длинный список названий: Стокгольм, Тринити, Мелроз, Данциг, Тир…
Я не стал останавливаться, чтобы дочитать список до конца. Я увидел то, что искал, и нажал на акселератор. Еще три верфи, где склады, высокие, старинные и таинственные, как замки; в воздухе смешивались причудливые запахи смолы, кожи и затхлого масла. И наконец впереди на стене я увидел выведенную готическими буквами выцветшую надпись: «Данцигская верфь». Я резко остановил машину, взвизгнули тормоза. Я выскочил, пробежал несколько шагов… и остановился.
В огромной фаланге кораблей зияла брешь. У трех причалов стояли высокие суда, но четвертый был пуст, и в разрыве, окрашенные золотом в свете заката, рябили воды гавани. С кабестанов и чугунных швартовых тумб, как мертвые змеи, свивались или просто свисали обрубленные канаты. Я пробежал вперед, наклонился над одним из них и обнаружил, что конец чистый, не затертый. Я опустился на причал в глубоком отчаянии, пристально глядя на пустые воды. Я приехал быстро, но волки каким-то странным образом прибыли еще быстрее. Они обрубили канаты и ушли. И Клэр вместе с ними…
Но как давно? Не может быть, чтобы раньше, чем несколько минут назад, от силы полчаса. Чтобы заставить двигаться эти огромные парусные корабли, требуется немалое время. Конечно, они не могли уйти далеко! Я вскочил на ноги.
Но затем я снова медленно опустился на колени на грубые камни. Я сделал это почти в каком-то благоговении.
Передо мной открылись бескрайние просторы моря, серого и недоступного, как собиравшаяся над ним мантия облаков, за исключением того места, где еще горел огромной резаной раной последний луч заката. И в этом разрезе тонкие языки туч, оттененные сверкающим огнем, создавали видение сияющих, освещенных солнцем склонов, окаймленных золотом и обрамлявших полосу туманной лазури. Я помнил форму этих склонов. Я помнил слишком хорошо, хотя и видел их теперь под новым углом. А в самом центре лазурной полосы, широкой, голубой и блестящей, похожей на устье, усеянное островами и окруженное широкими золотыми песками, я увидел высокую разукрашенную корму огромного корабля, с парусами, расправленными, как крылья, уходившего вверх и исчезавшего в бездонных глубинах неба.
Пока не погасло это великолепное сияние, я стоял на коленях, оглушенный, с помутившимся разумом и зрением, разбитый, дрожа от озноба. Небольшие волны бились о причал, высокие суда мягко покачивались с тихим потрескиванием и стоном, как деревья, раскачиваемые ветром. Я чувствовал себя, как последний лист, сухой и легкий, дрожащий на этом осеннем ветру. Только когда тучи сомкнулись над горизонтом, как ворота, и изгнали из мира свет, ветер замер. И я пришел в себя, несчастный, разбитый и замерзший, и на негнущихся ногах медленно поднялся.
Сон. Галлюцинация. Бред. Шизофрения…
Нет, эти определения казались сейчас исполненными самонадеянности и слепого высокомерия. Словно я допускал, что бесконечное могу уместить в своем маленьком мозгу. Словно я взглянул на купол собора и заявил, что это крыша моего черепа. Принять все, что я вижу. Здесь не было сомнений. Прилив — принимай его или нет, море все равно перекатывается через тебя и преподает мудрый урок: не переоценивать собственную значимость во всеобщем порядке вещей. Не верить — это было бы трудным делом. Для этого нужно большое воображение. И это действительно способно свести человека с ума.
Вчера вечером мне позволили заглянуть в бесконечность, но теперь я балансировал на грани мира и смотрел в его пропасть. Эти глубины терзали меня и притягивали. Они высосали мои мысли и унесли их в туманные дали, и даже сейчас, когда видение уже исчезло, было смертельно трудно вернуть их назад. На фоне этого я или любое иное человеческое существо казались крошечными, едва неразличимыми, а наши тревоги — маловажными, преходящими пустяками, пузырями в необъятном бесконечном водопаде.
И тем не менее мы должны иметь значение, пусть только друг для друга, пусть только затем, чтобы дать друг другу еще капельку значения, чуть-чуть дополнительной важности. Что еще могут пузыри, как не прилипать друг к другу?
Я должен помочь Клэр. Я больше не желал думать почему. Но в этот мир за Дунаем, в эту пустыню без конца и края я не мог отправиться один. Звездный свет стал серым, и холодный туман с моря обволакивал меня. На мой лоб упала капля дождя. Я устало забрался в машину, захлопнул дверь, повернул ключ в замке зажигания и поехал назад, снова вдоль верфей. Мне надо было кое-что найти, и это могло оказаться самым трудным.
Но то ли мне сопутствовала удача, то ли я уже начал ориентироваться в этом лабиринте. Дождь становился все сильнее, и я уже проехал мимо двух улочек, показавшихся слишком темными и малообещающими под этой завесой дождя. Третья выглядела точно так же, однако, когда я проезжал мимо нее, я успел увидеть отдаленный блеск, крошечное пятнышко света, пробившее на мгновение дождевую пелену. Я затормозил, развернул машину, стуча колесами по грубым камням, и въехал на эту улочку. Свет все еще горел, далекий, крошечный, рубиновое пятнышко на сером бархате. Мои ощущения мне ровным счетом ничего не говорили, но никакого другого знака не было. Он привел меня под окна мрачного массивного здания. Когда-то, наверное, это была коммерческая крепость, откуда правили судьбами людей вплоть до Норвегии, а то и Владивостока. Теперь же над дверями болталась современная вывеска, облезлая и неудобочитаемая, а большинство окон вместо штор были закрыты чем-то вроде просмоленной бумаги. Это превращало их в темные зеркала, и отражением в одном из этих зеркал было начало улицы, находившейся напротив, и света, сиявшего в ее конце. Я выскочил и стоял, моргая, всматриваясь сквозь дождь, колотивший и плескавший по крыше машины, затем захлопнул за собой дверь и побежал. В окне отражалась вывеска «Иллирийской таверны».