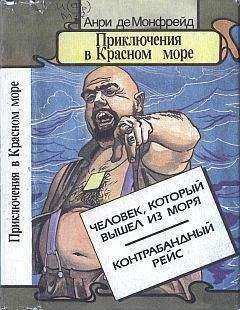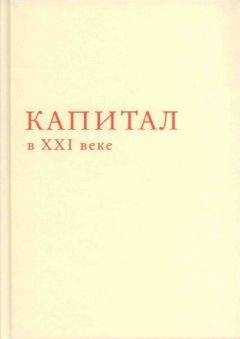– Да наша фирма, черт побери! Вы обнаружите разницу между ввозной стоимостью товаров и той, которую я реально оплатил в счетах, в графе «прибыль и убытки». Если бы я этого не делал, то риторно получал бы кто-то другой, и эта сумма не была бы тогда учтена в соответствующей графе…
Блюм, у которого отлегло от сердца, протянул своему директору руку:
– Я надеюсь, Корн, вы не подозреваете меня в том, что я хотя бы на минуту поверил в справедливость этих, с позволения сказать, разоблачений?
– А если бы и так? Тем хуже для меня. Однако в этом случае мне было бы неприятно сознаваться в своей маленькой хитрости, потому что я произвел бы впечатление человека, который обеспечивает себе гарантию доверия на будущее. Но поскольку теперь вам все известно, забудем об этом.
Блюм не захотел разбивать сердце старого Корна, сообщая о гнусном предательстве сына; он сослался на анонимное письмо, но так как показать его не смог, Корн заподозрил происки какого-нибудь завистливого подчиненного и украдкой сам произвел расследование. Через три дня тайна была раскрыта. Он, вероятно, убил бы своего сына, если бы опасение, что он отдаст Богу душу, не возникло в самом начале взбучки, которую устроил Марселю отец.
Вечером того же дня, когда сын был сурово наказан, Марсель Корн явился ко мне, весь в шишках, с опухшим лицом, большим синяком под глазом и рукой на перевязи.
Чтобы объяснить свое плачевное состояние и предупредить дурное впечатление от поступка, о котором его отец непременно бы мне сообщил, Марсель сознался в нем сам, но представил дело таким образом и объяснил свое поведение такими мотивами, что получалось, будто вел он себя если не совсем порядочно, то заслуживающим снисхождения образом, по крайней мере выступая в роли героической жертвы, окруженной чуть ли не ореолом мученика.
Он пустил в ход несоответствия между грубым характером отца и болезненной чувствительностью матери. К слову сказать, меня огорчал этот странный мезальянс бывшего старшего мастера с дочерью ученого Сен-Клер Девиля, женщиной утонченной и деликатной, столь же мягкой и благонравной, сколь ее супруг был резким и порой даже грубым. Воспоминание об этой интимной драме смягчило мое суровое отношение к сыну.
Однако подобный поступок, какими бы ни были его мотивы, обнаруживал подлые душевные качества и опасное коварство. Поэтому Марсель Корн попытался изменить это впечатление, изображая искреннее раскаяние и заранее осыпая себя упреками, которые опасался услышать от меня. Икая, с трудом сдерживая рыдания и проливая обильные слезы, он говорил, что хочет даже поступить в Иностранный легион и искупить кровью свою вину, состоящую в том, что он не задумывался над значением слов. Он, мол, совершил этот поступок в каком-то бессознательном состоянии…
Марселю было двадцать два года, я знал его еще ребенком и виделся с ним позднее, когда он подрос. Мне стало жаль его, и я проявил к нему снисхождение.
Чтобы спасти молодого человека, оказавшегося в бедственной ситуации, лишенного всякой поддержки, я предложил ему приехать в Африку и поступить на мой завод в Дыре-Дауа. После такого конфликта с отцом Марселю надо было куда-нибудь уехать.
Он поклялся мне в вечной преданности и заявил, что я спас ему жизнь. Таким образом, поддавшись порыву жалости и не придав значения его вероломству, которое должно было бы меня насторожить, я определил свою дальнейшую судьбу.
К самым разрушительным катастрофам обычно приводит предательство тех, кого мы, как нам кажется, спасаем от деградации, великодушно предоставляя им кредит доверия, в котором подобным людям отказывают все остальные.
Опасное великодушие, непростительная роскошь… Но что вы хотите? Я сам совершил множество ошибок, я сам столько раз подавлял в себе дурные инстинкты, что не мог безоговорочно осуждать тех, кто проявил минутную слабость и оступился. Я был не прав, когда судил о других по себе, ведь для меня доверие – это священные узы, соединяющие людей. Я полагал, что человек, которому я оказал доверие, поднимется на ноги, оправится от удара, чтобы его оправдать.
В самом деле, сколько несчастных навсегда скатились в яму, согнувшись под тяжестью совершенного в прошлом проступка, и только потому, что ни у кого не хватило смелости протянуть им руку и поверить в чистосердечность их раскаяния… Увидев змею, ее уничтожают просто так, из принципа, не давая себе труда узнать: а ядовита ли она…
Моей первой заботой было найти адвоката, и я уже собирался выбрать его имя наугад в справочнике, как меня посетила моя соотечественница, почти что подруга детства, особа весьма известная в полусвете и политических кругах.
Между собой мы звали ее Пунеттой (уменьшительное от Жозефины на каталонском языке). Она носила фамилию Делькаделл, принадлежащую богатой буржуазной семье, которая отдала ее на воспитание к монахиням в Сакре-Кёр.
В шестнадцать лет она бежала с одним молодым поэтом в Париж. Но вскоре разочаровалась в своем кавалере, найдя его самовлюбленным и глупым, и, отвергнутая семьей, увлеклась театром.
Эта когда-то юная девушка стала теперь красивой сорокалетней женщиной; она не была обделена ни талантом, ни умом, но играла только во второстепенных театрах, в основном в тех труппах, которые гастролировали по провинции. Впрочем, Пунетта была прирожденной актрисой, она всегда играла какую-нибудь роль, и не только на подмостках.
Умелая, одухотворенная, к тому же втайне склонная к интригам, она могла бы стать знаменитостью и оставить яркий след в истории театра, если бы ее легкомыслие и взбалмошность не разрушали так часто все, чего она достигала благодаря своим достоинствам.
Она притворялась, что относится ко мне как к доброму приятелю, и, возможно, это было ответом на мое поведение, которое никогда не переходило рамок обычного ухаживания, но за этим товарищеским отношением скрывалось оскорбленное самолюбие, поскольку чисто дружеский стиль общения был навязан женщине, привыкшей соблазнять мужчин и вертеть ими по своей прихоти.
Задетая моим безразличием, хотя она и не подавала виду, Пунетта вбила себе в голову, что должна меня «заполучить», и, увлекшись этой игрой, в конце концов вообразила, что любит меня. Но и тут тоже она исполняла роль, но уже другую.
Довольная тем, что ей выпал случай показать мне не только свою преданность, но и влияние, она представила меня своему «другу», секретарю Палаты, некоему Фийо, мужчине гораздо старше ее, лет этак пятидесяти, хотя на вид ему нельзя было дать больше сорока, настолько большое внимание он уделял своей наружности. Он держался приветливо, естественно и снисходительно, как и надлежало превосходящему всех парижанину.