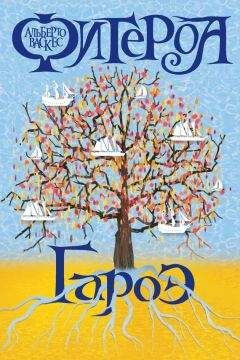Также могло случиться — и это, наверно, было самой серьезной угрозой, — что португалец намеревался скрываться до прихода какого-нибудь судна и только после этого объявиться, чтобы с помощью команды прочесать местность, обнаружить его убежище и уничтожить его самого.
Таким образом, Оберлусу не оставалось ничего другого, как найти Гамбоа, где бы он ни прятался, и прикончить.
Первым делом он спрятал остальных пленников, как следует связав им руки; на этот раз обошлось без кляпов, но его предупреждение прозвучало достаточно определенно.
— Я буду неподалеку, — сказал он. — И если я вас услышу, то приду и отрежу по два пальца каждому, не разбираясь, кто из вас кричал.
Как всегда, тщательно замаскировал вход в пещеру и приступил к спокойным и методичным поискам португальского лоцмана.
Гамбоа, Жуан Баутишта де Гамбоа-и-Кошта, бывший первый лоцман «Риу-Бранку», нашел убежище под выступом каменной плиты: распластавшись и прижавшись к ней, он оказывался совершенно невидимым с суши, даже для того, кто пройдет на расстоянии метра над его головой.
Когда короткий прилив достигал верхней точки, волны мягко касались его, так что пришлось приспосабливаться к приливам и отливам; вскоре он проникся убеждением в том, что, если бы Худ находился посреди любого другого океана, а не Тихого, с его спокойными водами, подобное убежище оказалось бы совершенно непригодным.
Он вспомнил, как яростно бились волны о берег в родном Кашкайше, и возблагодарил Господа, что окружен водами Тихого океана, потому что яростный Атлантический океан при первом же накате швырнул бы его на стену убежища.
Вот так, оставаясь сухим половину суток, другую половину проводил в воде, ожидая, пока медленно пройдут солнечные часы. Двенадцать. Ни часом больше, ни часом меньше, минута за минутой, — и хотя он старался всеми способами растянуть запас пресной воды, жажда — враг, которого он в данный момент более всего опасался, — к концу дня его измучила.
Руки, с которых совсем слезла кожа, горели от глухой, ноющей невыносимой боли, и он невольно издавал стон всякий раз, когда ему требовалось что-то взять или уцепиться за камень.
Он увидел, как солнце опустилось на горизонт, как раз напротив него, и терпеливо выждал, пока оно окончательно не скроется, окрашивая красным небо, затянутое вытянутыми грядами облаков.
Это было поистине восхитительное зрелище, однако Жуан Баутишта де Гамбоа-и-Кошта был не в том состоянии, чтобы им любоваться, и лишь молил, чтобы оно длилось как можно меньше и на остров поскорей опустился мрак.
Уже в темноте он вновь прошел вдоль берега по воде, в обратном направлении, и, ступив на сушу, лег на песок и затаил дыхание, с силой — насколько позволяли раны на руке — сжимая топор, чутко реагируя на малейшее движение, которое он улавливал на острове.
Спустя почти полчаса он двинулся вперед, прижимаясь к земле, сантиметр за сантиметром, сознавая, что его жизнь зависит от его же терпения и что время — его единственный сообщник в той схватке, в которую он вступил.
В нескольких метрах от него захлопал крыльями фрегат, и он испуганно прижался к земле. Когда сердце перестало учащенно биться, норовя выскочить из груди, он на четвереньках подобрался к птице, мягко отстранил ее и завладел единственным яйцом, которое она высиживала. Разбил его о камень и с жадностью выпил. Затем отыскал другие гнезда и другие яйца и стал утолять голод содержимым тех яиц, в которых не было зародыша.
Глаза Гамбоа уже привыкли к темноте, что позволяло ему различить очертания предметов на расстоянии пяти-шести метров, и благодаря этому спустя еще полчаса он наконец нашел то, что искал, — группу валунов, между которыми имелось небольшое углубление с чистой, свежей водой, вкус которой показался ему восхитительным.
Он поспал прямо там пару часов, снова напился, наполнил тыкву и продолжил путь вдоль берега, пока не натолкнулся на ствол толстого кактуса, возле которого обнаружил мирную наземную игуану. При его появлении она даже не шевельнулась и позволила схватить себя без малейшего сопротивления.
Он предпочел бы бесшумно свернуть ей шею, но ему даже на это не хватало сил, так что ничего другого не оставалось, как размозжить ящерице голову каменным топором.
Он медленно сжевал ее, сырую и чуть ли не трепещущую, преодолевая отвращение и не обращая внимания на кровь, стекавшую по его лицу и шее, поскольку был абсолютно уверен в том, что если не восстановит свои подорванные силы, то никогда не сможет противостоять врагу.
Рассвет застал его уже на обратном пути в убежище, где в разгар утра он воспользовался отливом и в первый раз за двое суток отоспался.
На восьмой день Оберлус начал выходить из себя. Он пядь за пядью обследовал остров, не пропустив ни одной пещеры, самой небольшой кактусовой поросли, ни одного оврага или другого естественного укрытия, — и не обнаружил даже отпечатка ноги беглеца, не говоря уже о нем самом.
Каждые два дня Оберлусу приходилось на время освобождать пленников — грязных, изможденных и перепуганных, физическое и умственное состояние которых ухудшалось прямо на глазах. Сам же он мечтал о возвращении к привычному для себя времяпрепровождению — наблюдению за своим «королевством», лежа на вершине утеса, чтению в течение долгих часов и наслаждению прекрасным телом своей пленницы.
Он подумал: не покончил ли португалец жизнь самоубийством? — однако эта мысль показалась ему нелепой, поскольку Гамбоа, если бы он вздумал лишить себя жизни, незачем было тратить столько сил на то, чтобы разорвать цепь. Также представлялось сомнительным, чтобы он отдался воле волн, вцепившись в какую-нибудь деревяшку, так как, будучи лоцманом, наверняка знал о существовании течения, которое проходило вдоль архипелага. Довериться этому течению было все равно что совершить самоубийство, только более медленным и мучительным способом, а интуиция подсказывала Оберлусу, что подобный шаг совсем не в духе Гамбоа.
Тот по-прежнему был здесь, прятался и наблюдал, выжидая, когда Оберлус устанет его искать и расслабится, — чтобы тут же начать ответную игру, из дичи превратившись в охотника.
После того как Оберлус осмотрел все естественные укрытия, которые мог предоставить остров, ему оставалось только предположить, что португалец зарылся в прибрежный песок или в землю на обрабатываемых пленниками участках, которую они терпеливо наносили в небольшие впадины. Поэтому он прошелся по пляжам, вонзая в песок через каждые полметра свой длинный гарпун, и точно так же проверил участки, портя посадки салата, томатов, табака и картофеля, — однако упрямый лоцман все не находился.