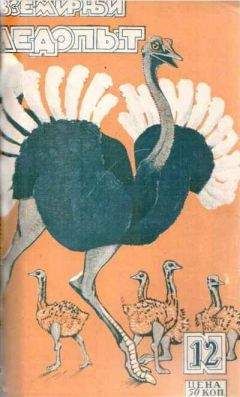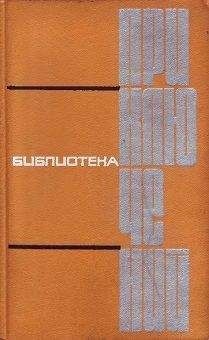— Обыкновенно пускают, но по особым пропускам. Они действительны на один день и только до пушечного выстрела в 10 часов вечера. По этому сигналу все посторонние граждане обязаны немедленно покинуть крепость. Утром по новому пропуску можно опять идти в город.
Порт приближался, и я отправился в капитанскую каюту, чтоб привести и себя и наши бумаги в порядок перед приходом портовых властей. Как мы и ожидали, наши бедствия, поломка мачты и потеря в людях никого не удивили. Невиданная буря свирепствовала 12 суток по всей Атлантике, и многие суда приходили в порт в еще худшем состоянии, чем «Св. Анна». А некоторые ожидавшиеся в порту корабли так и не появились.
Нам было разрешено чиниться в порту на рейде и погрузить уголь с одной из барок, обслуживающих коммерческие суда.
В свободное время матросы бродили по накаленному асфальту гибралтарского Мэнхеттена, зевали у витрин небогатых портовых магазинов, у казарм, перед которыми гусиным шагом маршировали часовые и на крышах которых на длинных веревках неизменно сушилось белье. Иногда компанией брели по крупному белому песку к испанской границе. Здесь у деревянных ворот стояли пестрые, как попугаи, испанские пограничники в треуголках с плюмажами, в зеленых куртках и синих штанах с цветными лампасами. Здесь можно было сесть в автобус и ехать в Малагу, Альхезирас или Сан-Роке, где в грязноватых, усиженных стаями мух кафе, под стук излюбленного испанцами домино, можно было тянуть сладкую тягучую малагу. Вечером вновь возвращались на корабль.
Через несколько дней ремонт «Св. Анны» был закончен. Уголь, провиант и вода погружены, и, переждав еще один лишний день в гавани из-за шторма на Средиземном море, «Св. Анна» двинулась на восток, придерживаясь африканского берега. Когда мы отошли километров на десять — пятнадцать от Гибралтара, Гринблат сказал мне:
— А знаете, я только теперь понял, почему древние называли этот пролив «Геркулесовы Столпы». Посмотрите. Какие два гигантских высоких камня — Гибралтар и Сеута! И словно их кто-то нарочно здесь поставил. Кто-то могущественный, как Геркулес.
Я оглянулся назад. Два серых высоких утеса, словно два стража пролива, медленно уходили вдаль.
— Смотрите, как отшлифован бок гибралтарской скалы с этой стороны. Здесь, вероятно, и находятся сильнейшие батареи.
— Да, хорошая фортеция, — согласился я, и мы долго еще смотрели на удалявшиеся гранитные массивы.
— А все-таки, знаете, я рад, что мы уже вышли из-под обстрела английских пушек — как-то не по себе было, — проговорил вдруг Гринблат.
Африканский берег поднимался Атласским хребтом в каких-нибудь 3–4 километрах от пути «Св. Анны». Четыре дня шли горные цепи на юге. Скалистый пустынный берег был дик и однообразен. Днем жгло горячее солнце, ночи были украшены влажными звездами, и прохлада позволяла отдыхать от томительной духоты.
Люди дремали на палубе под тентом в испарениях от зноя. Кочегары то и дело выбирались на палубу из «ада». По черным, закопченным лицам текли тонкие струйки пота, слипшиеся волосы падали на лоб, глаза были воспалены. Кочегары глотали воду, кружка за кружкой, из стоявшего у спардека бака и, обтирая грязной тряпкой мокрые лбы, опять гремели сапожищами по железному трапу, который вел вниз, в «преисподнюю».
Зато ночами палуба оживала. Уже не под тентом, а под открытым шатром неба, лицами кверху, с открытой грудью лежали матросы и кочегары, и здесь велись бесконечные беседы. В центре всегда был Гринблат. Он стал за эти дни любимцем команды. Умный, вдумчивый, вежливый, но вместе с тем и твердый, упорный в своей вере в революцию, он умел разговаривать с матросами, как свой человек. У него были обширные познания в области гуманитарных наук, он прекрасно знал историю и в особенности историю классовой борьбы. Его голова была набита разнообразными сведениями, справками, цифрами, цитатами, даже стихами, и он так живо, так горячо комбинировал в своих рассказах эти познания, умел таким понятным языком говорить о самых сложных вещах, что матросы готовы были слушать его целыми часами, засыпали вопросами, и авторитет Гринблата рос с каждым часом.
Матросы любили слушать его рассказы об Америке, где провел он юные годы как эмигрант, об английской тюрьме, в которой он сидел в 1918 году за отказ идти на фронт, и в особенности страшную повесть о знаменитой Иоканке. Рассказ о пребывании в Иоканке Гринблату пришлось повторить, вероятно, раз десять. И старые и новые слушатели относились к нему с величайшим вниманием. Легендарная Иоканка была знакома почти всем матросам «Св. Анны». Я сам слышал этот рассказ не менее трех раз и хочу записать его. Он этого стоит.
— Вот и назначили меня, ребята, комиссаром М-го батальона, — так обыкновенно начинал Гринблат, — и направили на Печорский фронт. Был я на Западе, на войне империалистической, бывал и на других, гражданских фронтах, но такого не видал. На тысячу верст кругом — все лес да болото, болото да лес. И ходить-то по этому лесу можно, только перепрыгивая с кочки на кочку, с корня на корень. Кругом день и ночь шумит старый лес, и где юг, где север, сразу не разберешь. Шли мы обычно по берегу какой-нибудь реки. Останавливались, посылали вперед разведку и опять шли. Против нас стояли партизаны из крестьян-раскольников да кое-где добровольческие роты. И у них было мало людей, и у нас тоже не густо. Куда? Разве в такую глушь затащишь артиллерию или обоз? А без обоза какое же войско? Так партиями и воевали. Что делалось по бокам, в стороне от пути, мы никогда толком не знали, ну а уж что было впереди нас, об этом и понятия не имели. Когда встречались с такими же партиями врага, приостанавливались. Фронта не было. Какой фронт на болоте, да еще когда кучка людей действует на сотни верст без тыла, без резервов, так, сама по себе, сама себе республика? Старались обойти партию противника, чтобы окружить ее и захватить в плен. Разумеется, белые такую же тактику применяли к нам. Это была жестокая война на истребление. Партизаны ненавидели красноармейцев. Это были крепкие хозяева, не желавшие подчиниться новым порядкам, религиозные, горячо привязанные к своим местам и преданные вековым обычаям и обрядам. Красноармейцы ненавидели партизан за меднолобое упорство и, главное, за жестокость.
Это были страшные дни. И вот, чтобы хоть немного чувствовать себя в безопасности, строили мы в лесах, на берегу рек и ручьев, блокгаузы, небольшие крепостцы из толстых сосновых стволов, благо лесу было сколько душе угодно. Такие блокгаузы строили когда-то первые пионеры белой расы в Америке, и эти крепости защищали их от хищных зверей и краснокожих. Бывало, трещит на дворе тридцатиградусный мороз, сосны гудят от ветра, а мы запремся в такой крепостце и отсиживаемся у огня и от холода и от волков, что воют ночами и свирепыми голодными глазами блещут в темноте. А то приходилось отсиживаться и от врага. Налетит на нас партия партизан-лыжников, и пошла перестрелка.