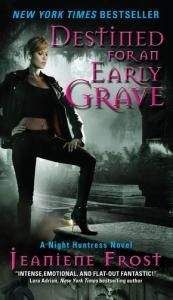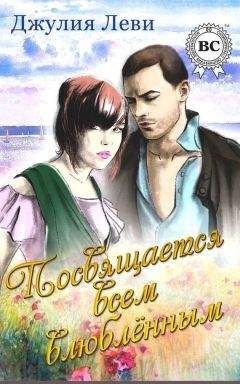Муть, словесная шелуха, неискренность, подхалимство и все прочее – после встреч с некоторыми из богемщиков матерый и многоопытный функционер Абражевич чувствовал себя так, как будто дерьма нахлебался. Но делать было нечего и приходилось терпеть и изображать из себя эдакого рьяного почитателя их выдающихся талантов. Рядом с Абражевичем восседал грузный, лет семидесяти, с набрякшими кровью щеками, с мокрым, в томатном соусе ртом и со слезящимися глазами маститый писатель Алесь Станиславович, известный тем, что когда-то в 91-м сжег свой партийный билет в Божьем храме с помощью восковой свечи. В прежние годы Алесь Станиславович был автором многотомных сочинений, прославлявших людей труда – пролетария и хлебороба, и на этой ниве намолотивший богатый урожай всех возможных отечественных премий и орденов. Старик был неопрятный, громогласный, шумный, лживый, как спившаяся проститутка, и Абражевич посадил его рядом с собой единственно по той причине, что тот был повсеместно узнаваем.
При первых тостах Алесь Станиславович вел себя прилично, насыщался икрой и гусиным паштетом, причем жрал так жадно, будто год до этого голодал. Но когда кто-то предложил обязательный тост «за народ, который несмотря на все временные лишения продолжает уверенно трудиться на благо страны», привычно взбеленился.
– А я не поддерживаю! – провозгласил он таким неожиданным сиплым басом, что в хрустальных люстрах закачались подвески.
– И правильно, – на всякий случай дипломатично заметил Абражевич. – Но разрешите поинтересоваться – почему?
Алесь Станиславович обиженно смахнул слезинку, разъяснил, как малолетке:
– Да потому, уважаемый Василий Васильевич, что все эти байки про народ сочинены нашим братом писателем, который так ловок, шельма, продаваться за чечевичную похлебку. На самом деле никакого мифического народа в природе не существует, а есть только хам и лодырь, который без хорошей плетки и пальцем не пошевелит.
– Уж слишком сурово, уважаемый Алесь Станиславович, – возразил Абражевич, хотя задор правдолюбца был ему по душе. Он и сам давно не верил в эти поэтические теории об исключительности, долготерпении и вечной полудреме народа, но могущего, подобно богатырю Илье, в одночасье пробудиться и великим усилием спасти мир. Возможно, вдалбливать подобные высокие идеи в головы молодого поколения отчасти полезно, но разумного, мыслящего человека многие факты истории убеждают в обратном: народ, как послушная отара, всегда следовал за сильной личностью, лидером нации, не важно, кем он являлся – князем, царем, секретарем ЦК, – и действительно совершал великие деяния, в которых позже ни один юрист не разберет, чего там больше – героизма или злобы.
Лучшее тому подтверждение – новейшая история. Семьдесят с лишним лет тупо, с энтузиазмом и неистовым блеском в глазах (Абражевич это хорошо помнил) поддерживали коммунистический режим, хотя при нем треть населения перебывала в лагерях. Но стоило появиться блаженному дудочнику с блямбой на лбу, как тот же народ во все свои могучие легкие согласно завопил: «Перестройка, мать твою, перестройка!» Глядь, дудочнику дал под зад сокрушительного пендаля собрат по партии. И что же народ? Ведь его никто не спросил, лишив огромной и мощной страны, затем подло ограбил и «обгайдарил» и после этого послал в рынок, даже толком не объяснив, что это такое. Нет, народ – это словеса, которые употребляют в узких корыстных целях недобросовестные политики.
Как бы подтверждая его мысль, писатель Алесь Станиславович продолжал гневно гудеть:
– Хватит, наслушались! Да из этого вашего народа раба каленым железом не выжечь! Как был мужик крепостным, так им и остался! Для него только тот прав, за кем стоит сила. А мне все талдычат, мол, демократия, народовластие. Полно, господа хорошие! Если этому пьяному народу действительно дать власть, пугачевский бунт покажется святочной сказкой. Все это уже было в истории. Чем больше народу воли давали, тем гуще кровь лилась.
Какой-то молоденький, но со знакомым лицом, то ли писатель, то ли телевизионщик, смазливый, с припудренными щеками, явно из тех самых Борисов Моисеевых, дерзко выкрикнул из дальнего угла стола:
– Что же вы предлагаете, Алесь Станиславович? Какой строй?
– Никакого строя. Все это пустое. Надеть ошейник и гнать на работу – вот тебе и весь строй, милый юноша.
Довольный собой, Алесь Станиславович налил в широкий вместительный бокал водки и залпом влил в себя содержимое. С удовольствием пожевал семужки специального посола. Спорить, в сущности, было не о чем, да и не с кем. Все, кто сидел за столом, были единомышленниками, думали примерно так же, другое дело, не каждый из них рискнул бы открыто высказать свои мысли. Однако подвыпивший молодой человек завелся, раскраснелся, принялся размахивать руками над столом, витиевато рассуждая об уроках западной демократии. Сидящая рядом с ним томная пожилая брюнетка капризно и даже чуть брезгливо его одернула.
– Шурик, заткнись. Ты не на сцене!
Следующий тост произнес старый, почти выживший из ума актер, любимец многих поколений советских людей. Выглядел он внушительно: изможденный, точно после голодовки, с клацающими, как у Брежнева, вставными челюстями, с пронзительным лютым взглядом из-под кустообразных черных бровей. Актер вспомнил прежние времена, заявил, что раньше все жили плохо, а вот теперь все живут хорошо. Это стало возможным, нахально лгал лицедей, благодаря замечательным людям, которые так любят искусство. И театральным жестом указал на Василия Васильевича. Войдя в роль, актер от полноты чувств прослезился и половину рюмки пролил себе на грудь.
Абражевич взволнованно, помпезно, но неискренне поблагодарил:
– Спасибо вам, дорогой вы наш человек! Спасибо вам, совесть нации! Горжусь, что живу с вами в один исторический период…
Дальше застолье покатилось своим чередом: инженеры человеческих душ, ублаженные изысканными яствами и питьем, удовлетворенно загомонили, разбившись на группки по интересам. Абражевич поднялся и поманил за собой Павла Николаевича, блаженствующего между двумя девахами, приглашенными из какого-то модельного агентства и размещенными в разных углах стола для украшения банкета. Вдвоем они перешли в курительную комнату, где опустились в мягкие, с черной кожаной обивкой кресла.
Пашка был слегка пьян. В умных глазах присутствовала улыбка всепонимания. Именно эта чуть ироничная улыбка всегда сильно раздражала Абражевича. Напротив, Павел Николаевич умел держать себя с таким неуловимым сарказмом и раздражающим превосходством, словно намекал, что знает о собеседнике что-то очень важное и обязательно мерзопакостное. Такая манера была хорошо знакома Василию Васильевичу. Ею часто пользовались прежние партийные боссы. Когда-то и он пытался ее перенять, но тщетно. Способность к тайной и оттого обидной насмешке дается человеку, видимо, от природы, передается генетически, как цвет глаз. Но несмотря на это, когда-то в застойно-застольные времена работники ЦК в своем кругу нахально и глупейшим образом утверждали, что в жилах многих партократов течет именно голубая дворянская кровь.