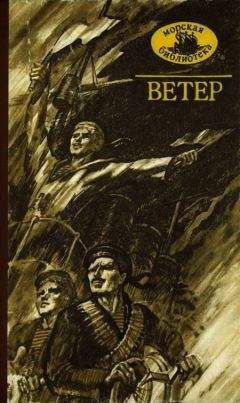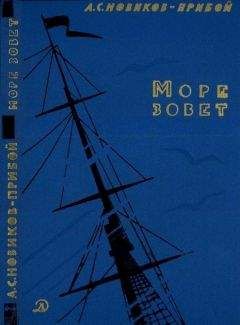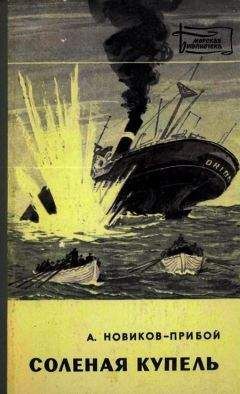— Нет, — признался Бабушкин. От быстрой ходьбы он уже запыхался, и лицо его стало темно-красным. — Непонятно. Молоко. Как вы могли его достать? Здесь его даже не меняют.
— Не перебивайте, — и Лобачевский поднял палец. — Итак, я не кто иной, как прибывший с флотилией знаменитый столичный специалист по таинственным болезням, а здесь есть одна девица, по имени Нюра, которая нуждается в моей медицинской помощи.
— Чепуха, — пробормотал Бабушкин, спотыкаясь о кочку.
— Совсем не чепуха, — возразил Лобачевский, — а даже наоборот. У вышеупомянутой Нюры есть мама, а у мамы есть корова. Теперь, надеюсь, понятно?
Бабушкин, задыхаясь, расхохотался:
— Здорово! Вот здорово!
Бахметьев тоже не смог удержать улыбки. Борис был верен себе. Выкинул очередную штуку и радовался. А его и Бабушкина потащил с собой, потому что ему нужны были зрители.
— Прошу прекратить легкомысленный смех, — строго сказал Лобачевский. — Медицина требует к себе самого серьезного отношения. Пациентке уже двадцать два года, она всё еще девица, и телосложение у нее самое округлое. Симптомы болезни: плохой сон, беспричинные головные боли, а иногда стесненное дыхание. Мой диагноз: фебрис женилис.
— Ой, уморил! — захлебывался Бабушкин, стараясь не отставать. — Совсем уморил!
— Я пропишу ей салол и валериановые капли, потому что больше ничего я у нашего лекарского помощника достать не мог, а это вполне безвредно. Лекарство, конечно, занесу в другой раз. Надо коровке дать время еще раз подоиться.
Лобачевский горестно покачал головой:
— Вы будете лакать молоко, а мне-то каково? Мне придется пройти за занавеску, велеть ей раздеться до пояса и со всех сторон ее выслушать. Фу, страшно подумать! Она такая мяконькая.
Бахметьев, вдруг остановился. Дальше идти он просто не мог. Это была та самая проклятая гардемаринская лихость. Женщина — предмет любовных развлечений и хвастливых разговоров. Сплошная, непроходимая гнусность. Но хуже всего было то, что прямо высказать свои мысли он не смел. Ему мешало его собственное гардемаринское воспитание.
— Я совсем забыл, — пробормотал он, не глядя Лобачевскому в глаза. — Мне нужно на корабль. Дела всяческие. Служба.
— Служба? — И Лобачевский поднял брови. Он, конечно, понял, что служба была ни при чем, и неожиданно смутился: — Ну, ничего не попишешь. — Но сразу же вскинул голову и с недоброй усмешкой добавил: — Смотри только не переслужи!
Бахметьев стоял неподвижно. На всей флотилии был один близкий ему человек — Борис Лобачевский, — и тот теперь становился чужим. Это было очень печально.
— Плохие дела, — сказал он. Нужно было хоть как-нибудь повернуть разговор в другую сторону, и он вспомнил: — Всё из-за мокрой курицы, Ивана Шадринского.
Лобачевский продолжал смотреть на него все с той же усмешкой:
— Говоришь, из-за Ивана? Могу тебя порадовать. Его снимают, а завтра на его место приезжает новый товарищ командующий. Какой-то коммунист из матросов. Будет замечательно хорошо, не правда ли?
Иван Шадринский был несомненной шляпой и за последнее время окончательно опустился. Но, во-первых, он всё-таки был своим, а во-вторых, немало прослужил и дело знал. А что может знать простой матрос, и как выслушивать от него приказания?
Все служебные убеждения Бахметьева восставали против такой смены командования. Он не так был воспитан, чтобы служить под началом у всевозможных матросов.
Но внезапно он понял, что это снова было гардемаринское воспитание, и, подняв глаза, к собственному своему удивлению, твердо сказал:
— Будет действительно хорошо.
7
Утром, как раз с побудкой, снова налетела неприятельская авиация. Это был уже четвертый налет, пожалуй самый утомительный из всех. Противоаэропланный сорокамиллиметровый бомбомет Виккерса несколько раз заедал, и артиллерист Шишкин не знал, что с ним делать, а стрелковый взвод с винтовками нервничал, открывал огонь без приказания и бессмысленно расстреливал небо. Но особенно неприятно было то, что одной из бомб зажгло баржу с дровами и потому чуть ли не два часа пришлось возиться с тушением пожара.
Когда наконец дали чай, комиссар Ярошенко со своим хлебом и сахаром пришел в каюту Бахметьева, сел, поправил повязку на раненой правой руке и сказал:
— Прибыл новый командующий флотилией.
Бахметьев кивнул головой:
— Слыхал. — И налил Ярошенко кружку чаю.
— Спасибо! — Ярошенко осторожно взял жестяную кружку левой здоровой рукой и положил в нее два куска сахару. Он только что получил паек, а потому решил выпить чаю внакладку.
— Ночью пришел на «Робеспьере», — сказал он. — Я с ним уже виделся.
Бахметьев подул на свой чай и промолчал. Вчера он из чувства протеста заявил, что это будет к лучшему, а теперь сразу пришла проверка. Не дальше как сегодня предстояло убедиться в том, что из этого получилось в действительности.
— Он вас знает, и, кажется, вы его тоже, — продолжал Ярошенко. — Его фамилия Плетнев.
— Семен Плетнев?
— Он самый.
Первым чувством было удивление. Куда бы он ни попадал, Плетнев непременно оказывался там же. В Морском корпусе он был его инструктором, а на «Джигите» его подчиненным — старшиной-минером. Теперь он стал его командующим. Как они встретятся?
И тут Бахметьев похолодел. Он вспомнил, как они расстались. Это было в Гельсингфорсе, сразу после июльских дней семнадцатого года. Конечно, страшно давно — почти два года тому назад. Но, к сожалению, недостаточно давно, чтобы об этом забыть. Он арестовал большевика-агитатора Семена Плетнева и арестованного под конвоем отвел в штаб минной дивизии.
Тогда он всего лишь выполнял полученное им приказание и выполнял его против своей воли, но теперь это стало контрреволюционным деянием чистейшей воды. Что по этому поводу сделает командующий красной флотилией Плетнев?
Но еще хуже было то, что он слишком многим был этому Плетневу обязан. Даже своей жизнью. Тогда, после гибели «Джигита», когда Плетнев вытащил его из воды, он почти сразу же отблагодарил его арестом. И теперь снова должен был с ним встретиться.
Он с трудом допил свой чай и, когда вышел на палубу, не знал, что ему делать. Чтобы всё-таки чем-нибудь заняться, полез с артиллеристом по погребам и, хотя особых беспорядков не обнаружил, изрядно вымазался.
В таком виде его застал рассыльный из штаба с приказанием немедленно явиться к командующему.
Он вымыл руки и решил переодеться, но почувствовал, что нужно кончать сразу. Кое-как почистился и пошел. Когда шел, думал о том, что на свой корабль едва ли вернется.