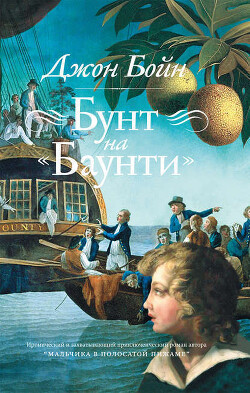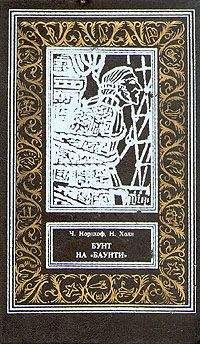Я, конечно, вышел из каюты, аккуратно закрыв за собой дверь, очень постаравшись, однако, оставить между ней и косяком дюймовый зазор, позволявший мне слышать, что говорится внутри. Все слова мне разобрать не удалось, но и расслышанных хватило, чтобы меня потрясти.
– …В вещах мистера Черчилля, вы говорите? – спросил капитан.
– Да, сэр, – ответил мистер Фрейер. – Я сам обнаружил его меньше часа назад.
– Список имен, – сказал капитан. – Как вы полагаете, что он означает?
– Это решать вам, капитан. Но, сами видите, здесь значатся имена трех дезертиров. В самом верху.
– Да, вижу. И имена нескольких других моряков. Что вы об этом думаете, мистер Кристиан?
Не знаю, где он стоял, однако весь его ответ свелся для меня к приглушенному бормотанию, ни одного слова я не различил.
– Но девятеро, сэр? – Это капитан. – Девять человек, собиравшихся дезертировать и остаться на острове? Это представляется мне абсурдным!
Мистер Кристиан заговорил снова, за ним мистер Хейвуд, ни того ни другого понять я не смог; следом опять раздался голос капитана:
– Нет, Флетчер, список останется у меня. Имена этих моряков должны быть известными сколь можно меньшему числу людей. Я понимаю, вы будете огорчены, но предпочитаю управиться с этим по-своему.
Голоса приблизились к двери, поэтому я запрыгнул в койку, накрылся простыней и притворился спящим. Через минуту-другую все четверо вышли из каюты, и трое офицеров молча удалились. Я чувствовал, что капитан стоит надо мной, вглядываясь в меня, и пошевелиться не смел. Постояв так немного, он вернулся в каюту, закрыл за собой дверь, а вскоре я и вправду заснул.
Я проснулся в полной темноте и услышал голоса. По звукам, которые до меня доносились, я понял, что стоит глубокая ночь и большинство матросов и офицеров спят по своим койкам, но что-то меня разбудило же. Наверное, проследовавшие мимо моей койки шаги, негромкий стук в дверь капитана. Ко времени, когда я полностью проснулся, я пропустил бо́льшую часть разговора в каюте и потому лежал неподвижно, дышал размеренно и слушал, закрыв глаза, его окончание.
– Не стоит ли вам расспросить их, сэр? – прозвучал вопрос – я узнал голос мистера Фрейера.
– Возможно, – ответил капитан Блай. – Но что толку? Мы же не знаем, почему мистер Черчилль включил их в свой список.
– Они не просто входят в список, капитан, – поправил его штурман. – Они его возглавляют.
– Это попросту невозможно, – сказал капитан Блай. – Двое мичманов? Попросту невозможно, – повторил он. – Отправляйтесь спать, мистер Фрейер. Довольно разговоров.
Несколько секунд прошло в молчании, затем штурман снова прошел мимо меня и вернулся в свою каюту, а капитан закрыл дверь своей.
На этот раз я не заснул.
13
Дни шли, а я, к великому моему смятению, так и оставался на борту «Баунти», не имея ни малейшей возможности сойти на берег. Попрощаться с Кайкалой я не успел, столь внезапно принял капитан решение вернуть команду на «Баунти». Ночь за ночью лежал я, мечтая о ней, пытаясь представить, что должна она думать обо мне, но когда я спрашивал у капитана, нельзя ли мне присоединиться к нему в его ежедневных поездках на остров (ради проверки того, как идет работа в питомнике), он качал головой и говорил, что спутники ему не требуются, а мое время лучше будет потратить на помощь матросам, которые готовили корабль к скорому отплытию.
Впрочем, я всего лишь лежал, пусть и с разбитым сердцем, в углу запыленного коридора, и это не шло ни в какое сравнение с ропотом моряков, которых все пуще злило навязанное им заточение. Конечно, многие винили во всем Маспратта, Миллуорда и Черчилля, дезертиров, ставших причиной неожиданного выверта нашей фортуны, однако еще большее недовольство вызывал у них капитан, хотя, по моему мнению, он просто отреагировал на проступок троицы ослушников, а вовсе не воспользовался первым подвернувшимся случаем, чтобы показать команде свою жестокую властность.
– Да, мог бы и я удрать с ними, и гори оно все огнем, – сказал Исаак Мартин как-то вечером, когда мы сидели на палубе «Баунти», глядя на береговые костры, на женщин вокруг них, столь мучительно близких и столь далеких, чтобы мы могли полакомиться ими.
– Так ты, значит, подумывал об этом, а, Исаак? – спросил помощник старшего матроса Джордж Симпсон, жуликоватый малый, к которому никто после одной истории, приключившейся во время картежной игры, сразу после пересечения нами 55-й параллели, ни малейшего доверия не питал; что-то там такое случилось с двойками, которые в нужные моменты появлялись неизвестно откуда, – как выяснилось потом, из задних карманов его штанов. История закончилась дракой, некоторое время вся команда считала его проходимцем, и даже сейчас никто ему до конца не верил. Честность в карточной игре есть непреложный догмат флотской жизни.
– Нет, не подумывал, – ответил Мартин (не произносить же крамольные речи при таком, как Симпсон). – Я бы моего поста нипочем не покинул, ни в жизнь. Я всего лишь говорю, что завидую их свободе и радостям, которые она приносит.
– Удачливые, черти, – сказал Джеймс Моррисон, помощник боцмана, которому вследствие его привилегированного положения пришлось бы, увы, надевать петли на шеи беглецов, если их поймают. – Коли хотите знать мое мнение, зря они дезертировали. Охота была свои свистульки потешить, так отлучались бы из лагеря ночью, когда офицеры на корабль уплывали.
Тоже верно. Основную причину их преступления составлял тот факт, что моряков окружали женщины, готовые распутничать с ними столько раз в день, сколько тем хотелось. Все мы купались в телесных удовольствиях, все и каждый. И я был не лучше прочих, хотя, к удивлению многих моих товарищей-матросов, уделял внимание только одной из островитянок.
– Проклятый Блай, – пророкотал за моей спиной низкий голос, и я, обернувшись, увидел лицо бондаря, Генри Хил бранта, уже совсем оправившегося от порки, полученной им несколько недель назад. – Он это из зависти сделал, вот и все. Другой причины нет.
– Из зависти? – переспросил я недоуменно. – А чему, с твоего позволения, может завидовать капитан?
– Нам, молокосос, – ответил он, глядя на берег. – Каждый здесь знает, что с того дня, как мы вышли из Спитхеда, капитан ни к одной бабе пальцем не притронулся. Здесь их вон сколько, бери не хочу, а посмотрел ли он хоть на одну? Да ни разу. Видать, он просто не может ничего, вот что я вам скажу. Видать, он и не мужик вовсе.
Я смотрел на Хилбранта с отвращением, ибо сказанное им было мерзостью, клеветой наихудшего толка. Сердцу моему хотелось защитить капитана, ведь он был так добр ко мне, и все же я не мог не гадать, нет ли в этом обвинении какой-то доли истины. Конечно, капитан любил свою жену, однако из разговоров с матросами я знал, что многие из них любят своих жен и скорее умерли бы, чем причинили им боль. Но то, что мы позволяли себе на Отэити, изменами не было. Во всяком случае, не казалось нам таковым. Мы относились к здешней жизни как к вознаграждению за долгий срок, проведенный нами в море, за лишения, которые мы сносили во время трудного плавания. Это затрагивало лишь наши тела, не чувства. Мы просто удовлетворяли свои потребности.
– Если хотите знать мое мнение, так он спятил, – продолжал Хилбрант. – Когда мужик долго не получает удовольствия, он просто сходит с ума. Ты согласен с этим, Турнепс? Ты же наверняка и сам уж наполовину помешался, а ведь прошло всего несколько дней с тех пор, как ты в последний раз макал куда надо свой фитилек. У тебя глаза сумасшедшие, ты еще не заметил? Мне и подумать страшно, что с тобой станет при полной луне!
Я на эти слова не ответил, потому как боялся, что они могут оказаться правдивыми. Нам предстояло дальнее плавание. И теперь, после того как я раз за разом вкушал любовь, мне было трудно представить утра, дни и вечера, лишенные подобных утех. При одной мысли об этом у меня в зюйде все ныть начинало.