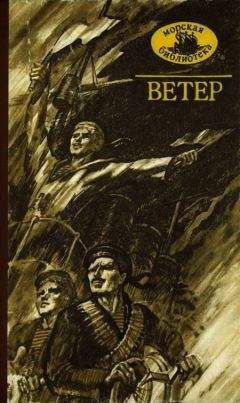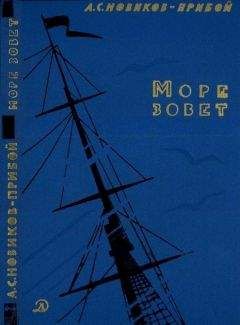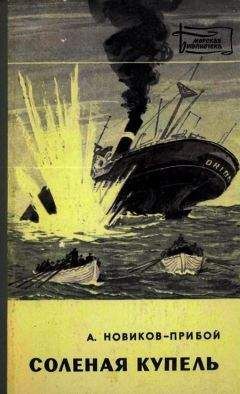Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную силу. Поэтому, уезжая на „Очаков“, Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.
Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. Он стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.
В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.
В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно — и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятавшихся по домам.
Только красный огонь маяка на острове Морской батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.
В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.
— Вы его защищать приехали? — спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом слезы. — Сегодня его перевели с острова. Я видел, как он сошел с катера, — высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские, — и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.
Да, много было тогда слез, что и говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.
Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погасило очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.
Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.
В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахте, чтобы хотя издали увидеть брата.
Первыми вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд, как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.
— Плачет… — прошел по рядам матросов глухой шепот. — Это сестра Шмидта… Плачет по нас…
Матросы сняли бескозырки — ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.
— Если бы в эту минуту, — говорила потом сестра Шмидта, — можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.
Не взыщите, — я с трудом вспоминаю эти дни. Придется говорить покороче.
Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.
„Предсмертная серьезность моего положения, — сказал он, — побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мной приговора. Никого из них нельзя карать равным со мной образом. Сама правда требует, чтобы я один ответил за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.
Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила из толпы меня, заурядного человека, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.
Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.
Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполнят мое сердце, и я приму смерть“.
После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.
Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани.
Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на плавучую тюрьму „Прут“.
Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.
Осужденные шли в суровом, торжественном молчании. Матросы срывали с себя погоны и бросали их в грязь на дорогу.
Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью.
Все было кончено. По статье сотой Уголовного положения Шмидт был приговорен к повешению, а Частник, Гладков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.
Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:
— Прощайте! Под крест идем!
Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался наконец сквозь мглу. Он озарил Очаков и шествие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штыки.
Шмидт сказал мне отчетливо и громко:
— Прощайте, Александр Сергеевич.
Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.
Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.
Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:
— По нем плачешь?
Я молчал.
— Эх! — Часовой отвернулся. — Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он. — Как человека прошу!
Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что вокруг происходит.
Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».
Последний отрывок из рукописи Гарта носил название «Казнь».
«Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.
Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху и умылся.
К борту „Прута“ подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту был ясно слышен лязг его якорных цепей.
К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:
— Я с удовольствием приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в Евангелии слова о том, что можно убивать людей.
В Евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.
Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул: